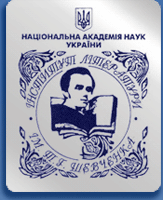Дипломная работа: Чаадаев — Герцен — Достоевский 
Наделяя героя такой страстной мечтой, писатель «оправдывает действительность
его страдания», глубину интеллектуальных метаний, «всемирной тоски», жизненных неудач в попытках деятельности, выражает надежду на значимость их в духовном движении человечества, в судьбах людей новых «тысячелетий». И вкладывает такое «оправдание» в уста самого персонажа (в черновой рукописи): «[“Пусть я умру без следа, но останется в них память о том <...> что мы жили и любили их раньше, чем они пришли на свет, и желали бы видеть их счастье”.] И пусть под конец кончится вся земля и потухнет солнце, но всё же где-нибудь [в мировой га<рмонии>] останется мысль, что всё это было и послужило чем-то[мировой гармонии] всему, и люди полюбили бы эту мечту» (Д XVII, 154). Mы видим, кстати, что уже в этом варианте автографа сами слова о «мировой гармонии», составляющей сокровенное упование Версилова — да и автора, — зачеркиваются, заменяясь более неопределенными оборотами для обозначения мира будущего; думается, зачеркиваются из-за целомудренно-трепетного отношения к этой главной в общечеловеческом масштабе надежде, а быть может, и в связи с авторским ощущением «непосильности» стоящих на пути к ней кардинальных противоречий бытия.
Но помимо отмеченного важного мыслительного нюанса, почему так трогает в целом этот черновой текст? Быть может, особенной достоверностью стыдливой интонации, выражающей наивно-бескорыстную жажду живой душевной связи с людьми будущего? И вдруг вспоминаешь, что той же интонацией и той же жаждой проникнуты интимнейшие строки одного подлинного документа. Это отчаянно-грустные раздумья Герцена, вылившиеся в дневниковую запись 11.09.42: «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования, — а между тем наши страдания — почка, из которой разовьется их счастие <...> О, пусть они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем, мы заслужили их грусть» (II, 226—227). Такие совпадения в мотивах и тоне задушевных мысле-чувствований персонажа, созданных воображением творца, с действительными реалиями внутренней жизни выдающегося современника особенно наглядно подтверждают силу художественной интуиции писателя, поднимающую его тексты порой до высоких психологических прозрений.
Весомейшим «оправданием» духовного поиска, «европейской тоски» героя-«скитальца» служит в романе, разумеется, характер восприятия его «фантастических картин» Подростком. Это «самое милое, самое симпатичное существо» поставлено автором в выигрышную для передачи внутреннего состояния обоих позицию предельно заинтересованного, любящего и требовательного участника диалога, хоть и неравного по образовательному
кругозору, но сильного тонкой сердечной интуицией. На протяжении всех эпизодов встреч, бесед с отцом он неустанно стремился проникнуть за двоящуюся, мерцающую иронией тональность его речей, ответов на самые серьезные вопросы (о социализме, о способности красоты спасти мир и т. п.) — проникнуть к «правде жизненной» его характера, нравственной позиции, с радостью отмечая моменты душевной теплоты, прямодушной откровенности. Наконец, в кульминации их духовных контактов — сцене «исповеди» Версилова — он сразу же, подобно точному сейсмографу, улавливает особый настрой отца, устремленного к нему «с беззаветною горячностью сердца» (Д XVI, 63). «Болезненно боясь лжи», он «растроган» этой горячностью в его «картинах» отношений людей будущего, отдающих всю свою любовь друг другу, «всякой былинке», «земле и жизни». «...Вы потрясли мое сердце вашим видением золотого века, — признается юноша, — и будьте уверены, что я начинаю вас понимать». Ему «ясно», что в этих «грезах» «выступает убеждение, направление всей жизни» Версилова.
Осмысляя впечатления судьбоносного вечера, Аркадий заключает: «Любовь его к человечеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство, без всяких фокусов». А роль «скитальчества», «тоски» отца и «друга» по «драгоценным» «камням Европы» решительно ставит для «жизни человеческой» «несравненно выше какой-нибудь современной практической деятельности по постройке железных дорог». Наконец, наиболее убедительным «оправданием» «сути» личности персонажа, утверждением жизненной значимости его «неравнодушия», его «поклонения идее» «всечеловеческого»
счастья стала сама развязка внутренней коллизии романа. По скупым признаниям повествователя о начале для него «новой жизни» читатель понимает, насколько глубокий переворот в душевном мире Подростка произвело общение с отцом, «исповедь» его, а затем «процесс припоминания и записывания». Осознание воспроизводимых событий и бесед с ним — в свете последних заповедных его откровений — стало важнейшим шагом к нравственному созреванию юноши («Я почувствовал, что перевоспитал себя самого»). Как только летом 1874 года проясняется смысловой стержень произведения, в сознании автора оформляется этот подлинный «Final». Он намерен «выработать» его «знаменательнее и поэтичнее». (В черновых материалах появляются записи такого рода: «Не забыть последние строки романа: “Теперь знаю: нашел, чего искал, что добро и зло, не уклонюсь никогда”»; или: «Я просто в жизнь верю, я жить хочу из всех сил <...> учиться любить всю жизнь...» — Д XVI, 63, 99.)
Так, в сложной структуре идеологического романа Достоевского осуществляется духовное движение молодого героя от «ротшильдовской идеи» гордой отъединенности от всех, порожденной «неблагообразием», атомизацией общества, — к прямому, открытому служению добру, самой жизни... Над внешней, событийной развязкой сюжетных отношений персонажей, в которой занятый сохранением своей «полной свободы» рассудок Версилова терпит крах, возвышается внутренняя, духовная развязка — живая, личностная, напряжением всех высших сил души совершаемая передача идеала любви к людям, мечты о всечеловеческом единении — поколению детей в лице собственного любимого сына. Писатель особенно озабочен тем, чтобы это явилось высшим актом подлинной личной близости, взаимного сердечного доверия, а не книжной проповеди свысока, и подготавливает художественный эффект естественности атмосферы кульминационной сцены уже с тех же переломных августовских дней, записывая еще одну «сквозную» памятку для себя: «Не забыть о ТОМ, как ОН начинает постепенно уважать Подростка, удивляется его сердцу, милой симпатии и глубине идей <...> И вообще выставить так, чтоб читатель это понял, что ОН во весь роман ужасно следит за Подростком, что равно рисует и ЕГО в чрезвычайно симпатическом виде и с глубиною души» (Д XVI, 64).
Такими путями развивается подспудно в ходе повествования и приоткрывается в финале «Подростка» (единственного из романов писателя) перспектива «некоей плодотворной преемственности» — возможности восприятия современным поколением общечеловеческого идеала от «русских европейцев». Отмечая эту возможность, исследователь добавляет: «Из всех атеистов, когда-либо изображавшихся Достоевским, Версилов наиболее симпатичен ему...»20 Эта-то «симпатичность»,
«глубина души» персонажа, с большим художественным тактом раскрывающаяся постепенно настороженному взгляду Аркадия, наконец, «восторг» ощущаемого полного доверия отца — и столь же интимной, личностной открытости его поэтической мечте о счастье всех людей не могут оставить равнодушным вдумчивого читателя. Недаром и спустя полвека Н. Бердяев так определенен в своей оценке: «Версилов — один из самых благородных образов у Достоевского»21.
А мы, возвращаясь к нашей общей теме, можем заключить, что высокая художественная убедительность этого образа, наряду со счастливым творческим озарением в выборе формы повествования, связана в большой мере с тем, что среди мыслительных проекций, образных наслоений идей эпохи, образующих структуру сознания «высшего культурного типа», весьма весомое место занимает преломление существенных мотивов мировидения Герцена — его антибуржуазной нацеленности, надежд на будущее народа России и «всечеловеческое братство», на «страшную независимость русского ума», которую еще «смутно провидел Чаадаев» (XVII, 103)22. Герценовский комплекс входит в интеллектуальные основы нового «типа» как оригинальный пласт русской культуры, усиливая философскую масштабность персонажа (вернее, как вершина этого пласта, за которой просматриваются пространства мысли Чаадаева, Печерина, устремления других «скитальцев», отраженные в фигурах Чацкого, Рудина). Герценовские ориентиры — или несогласия с ними — сопутствуют речам героя в течение всей работы автора над романом.
И если в окончательном тексте большая часть этих наглядных указателей снимается, то, с одной стороны, это сделано, полагаю, из-за уверенности автора, что идеи Герцена широко известны читателю, а с другой — для недвусмысленного утверждения вымышленности и самостоятельности «лица» персонажа, творческой свободы не только в обращении с его сюжетными поступками и судьбой, но и в воссоздании «полной реальной правды» «личности» изнутри — в ее сокровенной гуманистической «грезе» о «золотом веке» расцвета творческих сил и чувств «осиротевшего» человечества. «Грезе», которая завершается все же (для полной гармонии, вернее — для полного «оправдания» идеала героя- атеиста) «видением Христа» этим людям, и без того совершенным. «Я не мог обойтись без него», — признается Версилов, а в сущности — и сам автор, наделивший его этой новой «фантазией», «самой невероятной» для атеиста.
Притом внешний облик, манера поведения «лица», характер его общения с людьми, увиденные глазами юноши, впитали и на этот раз некоторые реалии личных впечатлений автора от встреч с Герценом, а главное — от БиД. В отношениях персонажа с окружающими лейтмотивной чертой уже с ранних заметок проходит, как я упоминала, «пленительное», обезоруживающее
«обаяние». Это обаяние искренности, «трогательного простодушия» (Д XVI, 99), бескорыстия,
сердечной открытости собеседнику. Следы реальных впечатлений входят в характеристику героя в преображенном виде — в сочетании с обостренным скепсисом, иронией, а чаще — автоиронией, направленной на собственные ожидания и иллюзии, на невозможность совместить жесткую требовательность к себе с противоречивыми побуждениями «широкой натуры» (Подросток определяет это «обычное», «знакомое» выражение лица так: «версиловская “складка” — как бы грусти и насмешки вместе».
Наконец, через все этапы работы над романом проходит глубочайшим свойством личности героя, «художественной натуры», страстная любовь к жизни, во всех ее живых проявлениях: от любования природой, «всякой былинкой» — до наслаждения искусством, концентрирующим в себе красоту «выжитой» мысли-страсти, поэтический восторг при виде «косых лучей заходящего солнца». И до таких простых радостей жизни, как хорошее вино в дружеском кругу. Любовь к шампанскому, перешедшая от Степана Трофимовича к Версилову и не раз повторенная в подготовительных записях разных этапов работы над «Подростком», как черта персонажа, непосредственно восходящая к Герцену (Д XVI, 50, 54, 418), несет в характеристике этого героя совсем иную, чем в «Бесах», функцию. Она символически выражает органичность его жизнелюбия, душевную широту, внутреннюю нескованность: «Да здравствует жизнь — шампанское!
<...> Выпьем за нее!»
А это заявление после исповеди сыну (Д XVI, 419) прямо обращает мысль читателя к главе XXIX БиД «Наши». В ней изображен «московский круг» западников 40-х годов, изображен с поэтическим подъемом — в их гуманистической деятельности и человеческой красоте, душевной «юности» и беззаветном противостоянии произволу («одни, выходя на университетскую кафедру, другие, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставке, ссылке»). «Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде», — заявляет Герцен. Он противопоставляет их «оконченной, замкнутой личности западного человека», его «односторонности», реально-исторически поясняя это отличие в характере «валом» «неудачных революций, взошедших внутрь» и «выплеснувших на главную сцену тинистый слой мещан». «...Мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой — гораздо проще западных людей...» «Мы жили во все стороны». Вспоминая частые «сходки» «то у того, то у другого» («Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний...»), он утверждает: «Пир идет к полноте жизни, люди воздержные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди» (IX,
112—114)23.
Думается, вдохновенные лирические размышления Герцена о «полноте жизни» на этих страницах мемуаров, о многогранности и эмоциональной насыщенности интересов как свойствах, характерных для русской интеллигенции 40-х годов, стали живым истоком и источником для выделения страстного жизнелюбия, художественной широты и неуклонной преданности гуманистическому идеалу в духовном мире персонажа. Почувствовав «действительную»
«глубину» этой преданности идеалу любви к жизни, к человеческому единению, Аркадий (вслед за автором) понимает, что только такой идеал, выводящий личность за границы ее самой, «вовне», может принести человеку удовлетворение, ощущение «счастья», возможности гармонии, «совершенства». И в черновых, и в окончательной редакции исповедных сцен мотив «счастья» в сложном душевном состоянии Версилова, «носителя мировой идеи», акцентируется, вопреки трагическому концу его интеллектуальных порывов в фабульном действии. Этот заветный мотив внятен юноше и подхватывается им (Д XVI, 425, 433; XVII, 156).
9
Так, отсвет покоряющей красоты духовного, художественного мира Герцена ложится на личность, идеалы «одного из самых обаятельных» героев Достоевского. Именно и только отсвет, ибо воображенное «лицо» наделено автором противоречивой, слишком «размётистой» «натурой»; ее необузданные страсти, как и обаяние сильной мысли, подчиняют себе окружающих, а за лихорадочными, подчас «комическими» метаниями проступает стремление «стоять твердо, верить» — и трезвое признание неспособности, разъедающего душу скепсиса («ничему не верю»). В «честном» самоанализе собственной раздвоенности, рождающей бессилие, герой приходит к выводу: «Пусть виновата среда, но виноват и я» (Д XVI, 419—425). В последних черновых набросках «исповеди» персонажа можно наглядно наблюдать, как упорно нащупываемая (в том числе и в писаниях Герцена) «внутренняя правда лица», его самосознания, коренных устремлений мысли прорывает первоначально намеченные писателем социально-психологические границы «типа», открывает возможность передачи «старыми людьми» эстафеты гуманистического идеала жаждущему правды и человеческого единения юному поколению.
Но вот творческий документ, в котором рассмотренные нами свойства личности и мысли Герцена присутствуют не как световой луч, преломленный сквозь призму вымышленного мира персонажа, а в прямой аналитической оценке самого автора, относящейся ко времени сразу после завершения «Подростка»24. Мы находим ее в черновой редакции ДП за октябрь 1876 года в связи с откликом на «странное и неразгаданное самоубийство» семнадцатилетней Лизы Герцен: «Заметьте — это дочь Герцена, человека высокоталантливого, мыслителя и поэта». «Это был один из самых резких русских раскольников западного толку, но зато из самых широких, и с некоторыми вполне уж русскими чертами характера. Право, не думаю, чтобы кто-нибудь из его европейских друзей, из тех, кто потоньше и поумнее, решился бы признать его вполне своим европейцем, до того сохранял он всегда на себе чисто русский облик и следы русского духа, его — обожателя Европы. И вот (думается и представляется невольно) — неужели даже такой одаренный человек не мог передать от себя этой самоубийце ничего в ее душу из своей страстной любви к жизни — к жизни, которою он так дорожил и высоко ценил и в которую так глубоко верил». «Убеждений своего покойного отца, его стремительной веры в них — у ней, конечно, не было и быть не могло, иначе она не истребила бы себя. [(Немыслимо и представить даже себе, чтоб такой страстный верующий как Герцен мог убить себя)] <...> И вот что для отца было жизнью и источником мысли и сознания, для дочери обратилось в смерть» (Д XXIII, 324—326).
Эта самая поздняя развернутая характеристика личности Герцена, становясь в ряд прежних суждений Достоевского о нем — «поэте по преимуществу», «художнике, мыслителе, блестящем писателе» (Д XXI, 9; XXIX1, 113), проясняет
их сокровенный смысл, связанный с подчеркнутым здесь свойством — страстным доверием к жизни. Она корректирует также считавшуюся итоговой пристрастную политическую оценку его в очерке «Старые люди» (1873): «эмигрант от рождения», «gentilhomme russe et citoyen du monde [русский барин и гражданин мира. — франц.]», снимая ироническую окраску с содержания этих формул, утверждая позитивный смысл любви Герцена к Европе, связь с будущим России его общечеловеческого идеала. Для нашей же темы она важна и как подтверждение того, что выделенные в воображении художника черты внутреннего мира Версилова — любовь к жизни и вера в гуманистическую «мировую идею» — связаны непосредственно с актуальным характером раздумий Достоевского в этот период над личностью и наследием Герцена. Она поясняет и то, почему при обдумывании финала романа автор сразу отверг мелькнувший было вариант самоубийства героя.
Пытаясь прояснить причины смерти Лизы, публицист в разбираемой главке ДП ставит, по сути, ту же проблему идеалов «отцов и детей» в современном мире («где стало душно жить»), какая решалась на художественном пространстве «Подростка». Но там перспектива восприятия гуманистического
идеала «отцов» частью юного поколения и убедительность такой развязки зависела, помимо поэтичности самой «грезы» «отца», — от творческой силы и такта художника в воссоздании внутреннего мира юноши — «лица», чуткого к правде, в выработке соответственной формы его повествования, изобретении психологических подробностей роста его личности, жаждущей жизни, единения с людьми. В статье же публицисту пришлось и решать противоположную задачу и идти обратным путем: исходя из реального трагического итога — ухода из жизни юного существа, ухода, в котором «всё, — и снаружи, и внутри, — загадка», «постараться как- нибудь разгадать» ее.
Из окружавшей «с детства» Лизу «снаружи» атмосферы автору известна лишь суть убеждений «отца» — материализм; о состоянии ее «внутри» можно судить только по пустоте и озлобленности тона предсмертной записки. Публицист и пытается соединить эти явно недостаточные фактические данные в своем отвлеченном, заведомо гадательном этико-психологическом объяснении, чтобы превратить факт в символ. Статья призвана априорно доказать, что волна самоубийств, которой он весьма озабочен, — результат той упрощенности взгляда на бытие, которая входит в молодые души вместе с материализмом.
Но стоит только Достоевскому обратиться к якобы первоистокам нынешней «прямолинейности», погрузиться мыслью в духовный мир учителя материализма, как писатель, чуткий к психологической правде, не может не выделить личностный стержень этого мира — светлую, при всем трагизме действительности, веру в жизнь! В его прочувствованных строках о Герцене прорывается дань глубокого уважения, граничащего с преклонением, перед величием духа мыслителя-гуманиста, его цельностью и «стремительной» убежденностью. «Немыслимо и представить даже себе, чтоб <...> Герцен мог убить себя!» «Страстная вера» в свои идеалы, одухотворенно-гармоническое мировосприятие великого жизнелюбца «были жизнью и источником мысли» для Герцена!
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|