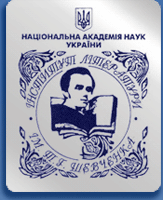Дипломная работа: Чаадаев — Герцен — Достоевский 
Та же двойственность деталей (и их близость к реальным образцам, и их явно сниженный регистр) неукоснительно выдержана затем в самом описании «гражданских подвигов» героя, заостряющем мизерность его якобы протестных акций, отвлеченность, «беспредметность» умственных интересов («несколько лекций, и кажется, об аравитянах» в университете, прекращенных начальством; диссертация о «не состоявшемся» в начале XV века «ганзеатическом значении немецкого городка Ганау», «больно уколовшая» славянофилов; начало «глубочайшего исследования» о «нравственном благородстве каких-то рыцарей в какую-то эпоху», напечатанное в «прогрессивном журнале», за что тот «пострадал», окончание же «запрещено», а «вероятнее», и не дописано — из лени; наконец, еще юношеская рукописная поэма-аллегория о движении «всех народов» к «новой жизни», найденная к концу 40-х в трех «списках» и признанная «опасною», а теперь опубликованная за рубежом).
Небрежный тон Хроникера, вернее, тон иронического панегирика, делает особенно смешной — по контрасту — никчемность «глубочайших» трудов героя и мнимую «серьезность» «претерпенных» за них «гонений». Так, сам «тип» мышления и характер общественных «деяний» «либерала- идеалиста» 40-х годов должен предстать в осмеиваемой фигуре малозначительного
участника движения, «только подражателя» видных западнических авторитетов. И вместе с тем его «послужной список» построен на узнаваемых пародийных ассоциациях с собранными воедино значимыми событиями их идейных, творческих биографий (как закрытие «Телескопа» после публикации I ФП Чаадаева; цензурный запрет на продолжение в «Современнике» 1848 года статьи Герцена «Несколько замечаний об историческом развитии чести», оставшейся потому незавершенной; или круг тем средневековой Германии в диссертации Грановского «Волин, Йомсбург и Винета»; или юношеская романтическая поэма В. С. Печерина «Торжество смерти», напечатанная, как и «сценарии» ранних «фантазий в стихах» Герцена, в Лондоне в 60-е годы, и пр.)14.
Предельно иронически заостряя эти факты в проекции на «славное» прошлое вымышленного рядового персонажа, Достоевский стремится «осатирить» в его лице «типические дурные черты» (Д XXVI, 313) всего течения русской западнической мысли 40-х годов и его историческую роль в идейном диалоге 60-х. Он подбирает для конкретизации «типа», придания персонажу художественной живости и другие подлинные детали быта, психологии, фабульные мотивы, почерпнутые из собственной памяти, из мемуаров современников, но преломленные по преимуществу столь же целенаправленно.
Так, в подготовительных материалах, под рубрикой «Характерные черты», появляются язвительные строки: «Становит себя бессознательно на пьедестал, вроде мощей, к которым приезжают поклониться, любит это» (Д XI, 65). Очевидно, здесь в резком ретроспективном ракурсе фокусируются и личные воспоминания о встречах с Герценом во время собственной поездки к нему в Лондон в июле 1862 года15, и, возможно, наблюдения там над его общением с другими гостями из России, а главное — предвзято воспринятые описания в БиД этого «паломничества» (см. XI, 295—329),
достигшего, пожалуй, апогея интенсивности именно летом 1862 года — во время Всемирной выставки в Лондоне. Думается, материалом для насмешливого заключения романиста послужили и страницы главы ХХХ мемуаров Герцена о «влиянии» опального Чаадаева в великосветской Москве («тузы» ее, дамы «толпились по понедельникам» в его «скромном кабинете» — «из тщеславия», отражающего «невольное сознание, что мысль стала мощью» — IX,
142—143).
Эта и многие другие пометы в записи от 3.02.70 призваны «выявить» те живые черты «типа», что «хотел выставить в этом лице художник и на что хотел указать» (например: «Любит шампанское»; «Хорошо устроил денежные обстоятельства» — наблюдения, взятые из БиД и как бы уличающие героя задуманного романа — «идеального западника» — в «барском» гедонизме привычек, а вместе с тем — в сугубом практицизме).
Но уже на этой стадии разработки замысла Достоевский-реалист начинает чувствовать «неполноту правды» в таком одностороннем взгляде извне на конструируемый образ-тип (или взгляде «сбоку», как напишет он спустя десять лет об образе Простаковой, противопоставляя
ему свое понимание подлинного реализма, который проникает во «всю суть дела», в «полную правду» внутренних побуждений «лица», показывая и «остального человека», — Д XXVI, 313—314). Думается, этим ощущением продиктовано, к примеру, появление на полях того же листа пометы: «Пятно на стене» — рядом с саркастическим абзацем о «гонениях», «пьедестале», «мощах» (Д XI, 65; см. фотокопию автографа — Д Х, 14—15). По догадке Е. Дрыжаковой16, эта помета — напоминание об эпизоде гл. ХХХ БиД, рассказывающем, с каким благоговением к памяти друзей — Пушкина и М. Ф. Орлова — «угрюмый мыслитель» Чаадаев показывал «два небольших пятна на стене над спинкой дивана: тут они прислоняли голову!» (IX, 146).
Далее на листе следует заготовка автора: «Действительно честен, чист и считает себя глубиной премудрости». Это парафраз к стихам Некрасова о «либерале-идеалисте» из «Медвежьей охоты» (посвященным Грановскому: «Честен мыслью, сердцем чист»). Интересна эмоциональная амбивалентность фразы: утверждение «действительной»
«чистоты» героя снижено тут же насмешливым замечанием об уверенности его в своей непререкаемой мудрости. А на полях рядом возникает противоречащая, по сути, этому выпаду запись, хотя по форме — тоже насмешливая: «Глупость откровенности: осилил Мадонну». Думается, за этой пометой стоят впечатления о трогательной открытости, безоглядной искренности лирической интонации, свойственной БиД, где повествование покоряло читателя «мужественной и безыскусственной правдой»17 авторских соразмышлений с ним о жизни, — в широчайшем спектре — от «интимных» чувств автобиографического героя до сокровенных духовных сомнений и взлетов.
Герцен, кстати, отдавал себе отчет в том, что за столь непривычной мерой душевной распахнутости кроется опасность остаться эстетически непонятым («слишком внутренности наружи»). Но также и в том, что в этой «храбрости истины» — «сила» его «слова»: оно «пахнет живым мясом», «просочилось сквозь кровь и слезы» (XXVI,
32, 73, 146—147). И примером такой самозабвенной, простодушной «откровенности» мог сохраниться в памяти Достоевского рассказ Герцена о рождении сына в гл. XXIV — «13 июня 1839 года». В нем писателя взволновал, вероятно, и грустно-счастливый колорит благоговейных воспоминаний автора о высочайшем духовном, «религиозном» моменте в истории любви его и Натальи Александровны, открывшем им новые, «неведанные области» «упоений», «тревог», «надежд», связанные с зарождением «новой жизни». И его признание в переполнившем сердце преклонении перед женщиной-«родильницей», перед красотой ее «измученно-восторженного лица». На него падает здесь отсвет поэтического облика Мадонны (отсюда и истоки моего предположения, что помета Достоевского указывает на эту главу).
Образ евангельской Марии под пером Герцена оживает в сугубо земном ореоле противоречивой душевной сложности, обретает объемность, полноту человеческих чувствований, пройдя сквозь призму ренессансного искусства. Рядом с юной Мадонной Ван-Дейка, с силуэтом «всех скорбящей женщины-матери» из «Страшного суда» Микеланджело возникает крупным планом Сикстинская Мадонна Рафаэля: «Она испугана небывалой судьбой, потеряна»: «ее уверили, что ее сын — сын Божий». «Она смотрит с какой-то нервной восторженностью, с магнетическим ясновидением», будто говоря: «Возьмите его, он не мой». «Но в то же время прижимает его к себе так, что, если б можно, она убежала бы с ним куда-нибудь вдаль и стала бы просто ласкать, кормить грудью не Спасителя мира, а своего сына». Заключая поэтический гимн Марии — Матери человеческой, Герцен писал: «В ней прокралось живое примирение плоти и духа в религию» (VIII,
380, 386—388). Приведенный фрагмент, думается, подкрепляет предлагаемую расшифровку пометы «осилил Мадонну» как признания глубины, проникновенности прочтения Герценом полотна Рафаэля. Добавлю, что Достоевского во время пребывания в апреле — июне 1867 года в Дрездене, как свидетельствует его жена, среди художественных впечатлений более всего притягивали БиД и Сикстинская Мадонна18.
Таким образом, представляется, что и в начале работы над «Бесами» в 1870 году, обращаясь к мемуарам Герцена за живыми черточками для сатирической обрисовки типа западника, — кстати, самая манера писателя внесена в разряд таких «характерных черт»: «Портретики. Мемуарчики (и т. д. в этом роде)», — Достоевский вместе с тем вновь покоряется обаянию его волнующего поэтического рассказа о друзьях молодости — «ордене» рыцарей беззаветной жизни духа, для которых «интерес истины, интерес науки, интерес искусства, humanitas — поглощает все» (IX, 44—45). Акцент на этих побуждениях личности у Герцена отвечает внутренней потребности автора романа выйти за пределы однобокого «осатиривания» типа к «полной правде» «лица». Так появляются на полях первоначальных заготовок восходящие к БиД пометы отнюдь не сатирического регистра: за ними – свойства сердечности героя, простодушной открытости, тонкости понимания искусства. И прямые определения артистизма, поэтичности натуры героя, его «ума и остроумия», повторяясь к концу перечня, теряют раздраженно-ироническую окраску («Действительно поэт» — Д XI, 66). Здесь, несомненно, на вымышленную фигуру не слишком заметного «лица», «подражателя», возвышая его человеческую «суть», падает отсвет восприятия Достоевским жизненной многогранности, творческой значимости поэтического таланта Герцена. Потому мне показалось существенным уловить на одной из ранних стадий формирования образа следы того, как художественный мир БиД воздействовал на восприятие — и преломление Достоевским реальных свойств Чаадаева и Герцена, их конкретных поступков, чувств, эстетических оценок, — в проекции на складывающийся абрис будущего героя. Рассмотренные примеры, думается, позволяют заключить, что уже на этом этапе работы над образом мемуары Герцена содействовали реалистическим устремлениям самого автора преодолеть лишь «осатиривающую» тенденцию в создаваемом «типе», помогали его движению к внутренней, «полной правде» «лица».
Важно в этой связи свидетельство самого романиста в ДП 1876 года о соотношении образа Верховенского с реальной исторической фигурой Грановского, в которой он видит «нечто безупречное и прекрасное»: «...он имел свой собственный, особенный и чрезвычайно оригинальный оттенок в ряду тогдашних передовых людей наших, известного закала. Это был один из самых честнейших наших Степанов Трофимовичей (тип идеалиста сороковых годов, выведенный мною в романе «Бесы» и который наши критики находили правильным. Ведь я люблю Степана Трофимовича и глубоко уважаю его) — и, может быть, без малейшей комической черты, довольно свойственной этому типу» (Д XXIII, 64). В сравнении собственного персонажа с одним из обобщенных в нем жизненных характеров невольно проступают контуры своеобразия творческого процесса Достоевского (близкие к высказанным выше наблюдениям над промежуточными, рабочими текстами). Это сложный путь от первоначального замысла выпуклой «комической» типизации всего умственного течения, без выделения «оригинальных оттенков» мысли, поведенческих принципов — в снижающем их «цельном голосе» рядового персонажа. Путь через неудовлетворенность возникающим ощущением «лишь половины правды» в «осатириваемом» таким образом «типе». И стремление пробиться к «полной», «реальной правде» созданного воображением «типического лица», нащупать сокровенные струны души героя, что невозможно без человеческой симпатии, бережного внимания. С ними автор непосредственно связывает достигнутую реалистическую живость, убедительность образа.
8
Над «Подростком» писатель начал работать с февраля 1874 года. Исследователи выявили и здесь за многими деталями, участвовавшими в формировании образа Версилова, их источники в реальных подробностях жизни, духовных поисков Чаадаева и Герцена, творчески преображаемых восприятием автора. Проследим роль некоторых структурных элементов в меняющейся с углублением замысла романа эмоциональной окраске персонажа.
К июлю-августу 1874 года в центр произведения выдвигается диалог нынешних «отцов и детей», «теперешнее их взаимное соотношение» (Д XXII, 7). В обстановке воцарившегося в русской жизни «хаоса и всеобщего разложения» юный герой, «неготовый человек» (или, как гласит запись 10.09.74, «Молод<ое> поколение — Подросток, лишь с инстинктом, ничего не знающий» — Д XVI, 128) жаждет найти нравственные ориентиры в общении с отцом, получить представление о достойной жизненной цели. Действия и речи Версилова, представляющего «высший культурный слой» дворянской интеллигенции, призваны в прояснившейся романной коллизии выявить, способен ли ныне этот «высший тип» сыграть роль «хранителя чести, света, науки и высшей идеи».
В связи с этим снимаются или затушевываются превалировавшие в первоначальной характеристике героя психологические черты «хищного типа», следы тайного преступления, демонизма, а соответственно — в идейном плане — проповедь католицизма, презрения к России. (Таким формулам в устах героя послужили исходным материалом мысли ФП Чаадаева, резкая критика им православной церкви, которая своим невмешательством помогла закабалению народа, «мертвому застою» страны. Ей философ противопоставлял, как известно, социальную активность католичества.) Эта позиция доводилась романистом в ранних заготовках к «Подростку» до логического предела, преломляясь в поступках персонажа, вплоть до «вериг» католика-фанатика, попыток насильственного
«обращения» окружающих. Активная приверженность к католицизму (в глазах Достоевского — вреднейшему извращению христианства) в последней редакции переводится в разряд неясных слухов об эпизоде из зарубежного прошлого Версилова, распространяемых недоброжелателями.
Остаются в фактуре образа некоторые черточки биографии героя, которые восходят к мемуарным материалам о Чаадаеве («прожитые три состояния»; сила умственного воздействия на окружающих: «бабий пророк»; мотив любви к нему умирающей девушки)19. За ними стоят, воплощаясь на уровне сюжетных действий персонажа, свойства склада мышления, неотъемлемые, в сознании писателя, от «типа» передового «барина»: «безмерная» гордость разумом — и скептицизм; атеизм — и неуспокоенность в идейном поиске («скитальчество»);
«высокомерие», эгоизм — и «всемирное боление за всех». При этом постепенно меняются акценты, эмоциональные обертоны в изображении внутреннего мира Версилова — уже в черновых набросках. Духовный облик вымышленного «лица» в его беседах с сыном обогащен мотивами герценовского разочарования в потенциях социального и нравственного прогресса Европы. Подобно Герцену кризисных лет после революции 48-го года, герой возвращается мыслью к России как наследнице общеевропейских культурных, гуманистических традиций (в его речах явственны отзвуки эссе «La
Russie», последних «Писем из Франции и Италии», «Концов и начал») и не раз в черновиках романа сам указывает на эту связь идей. Но возвращается он к России не только мыслью. «Созданное воображением» художника «лицо» подчинено в своих действиях лишь его творческой воле. Достоевский же на сюжетном пространстве произведения ставит эксперимент, позволяющий выяснить возможности действенного участия такой личности ныне в построении «будущего России».
После краха многих иллюзий, вернувшись на родину, герой устремлен мыслью к ее «высшей идее», видя ее в «мировом всепримирении». Для писателя это равнозначно порыву к нравственному идеалу Христа. Однако основой интеллектуального мира «типа» остается при этом порыве впитанная с умственными традициями нескольких поколений «складка» рационализма и атеизма. Она делает жажду веры, охватившую личность персонажа, «зыбкой» и неустойчивой, отвлеченной и — в итоге — бездейственной, как и его любовь к народу, к «святой Руси» (символизируемой образом крестьянки — матери Аркадия). Это чутко ощущает тянущийся к отцу «всей душой» юный Рассказчик. Двойственность отношения к собственным новым устремлениям выражает не раз и сам Версилов с присущей ему «горькой», скептической «насмешкой» над собой, над «старым поколением», не передавшим «новому ни одной твердой мысли». Так, внушив сыну, что с ним говорит «носитель высшей идеи», он тут же дезавуирует этот вывод слушателя, шепча ему на ухо: «Он лжет» (причем такой автоиронический диалог, намеченный еще в набросках июля 1874 года, вновь повторяется, как существенный для движения образа и главной коллизии, в заготовках марта 1875 года — Д XVI, 38, 285).
Еще более показателен в этом плане чрезвычайно важный для авторской концепции эпизод «рубки» героем «икон» (дорогого ему дара праведника Макара) — в припадке возбуждения, полубезумия. Эта сюжетная перспектива возникает перед писателем постоянно на всех этапах работы над подготовительными заметками, черновыми рукописями и становится кульминацией развития действия в окончательном тексте «Подростка», знаменуя крах рационализма, несостоятельность
атеистического сознания, оторванного от национальной «почвы», в попытке пробиться к живой вере и «живой жизни».
Однако в сложной эмоциональной ауре образа «русского скитальца» здесь, в отличие от Степана Верховенского из «Бесов», явно доминируют трагические тона. Дело в том, что на этот раз проблемный ракурс романа потребовал сильной и значительной личности героя, ибо ему автор предназначил в перипетиях сюжета испытание на духовное, нравственное лидерство в обстоятельствах всеобщего «беспорядка» «текущего». Уже в начале августа 1874 года в подготовительных материалах возникают симптомы нового отношения к герою. Так, на двух страницах идут отрывочные наметки для его характеристики — о «художественной натуре», исповедной откровенности с сыном, о темах их разговоров, современных и теоретических, и т. п. К примеру: «обаятельный характер (отказался от наследства)», «пленяет (буквально)», «простодушно обаятелен и с женой», вновь — о «страшном простодушии», еще дважды — об «обаянии». А затем следует существенная запись, адресованная автором себе, — о сквозной художественной задаче, которую предстоит решать сквозь призму впечатлений юного повествователя, отражающих его нравственный рост в общении с отцом: «Но главное выдержать во всем рассказе тон несомненного превосходства его перед Подростком и всеми, несмотря ни на какие комические в нем черты и его слабости, везде дать предчувствовать читателю, что его мучит в конце романа великая идея и оправдать действительность
его страдания» (Д XVI, 42—43).
При всей умственной раздвоенности, антиномичности импульсов натуры личность Версилова возвышает над окружающими неутомимая и бескорыстная мечта о светлом будущем человечества. Она составляет заветное достояние его душевной жизни, рождает — посреди скептицизма и отчаяния — поэтические картины солнечной любви людей друг к другу в далекой «мировой гармонии». Вдохновенная мечта о «золотом веке», как видим, и для автора «великая идея». И именно этому герою он отдает в конечном счете созданные собственным воображением в самые светлые минуты взволнованные страницы «грезы» о человечности, которой дано проявиться на земле, даже если мир оказался бы обезбоженным.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|