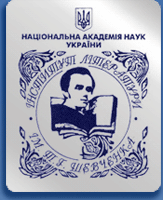Дипломная работа: Чаадаев — Герцен — Достоевский 
Зерно монистического представления о лице и мире, таким образом, уже отброшено. Импульсы «натуры» современного человека все резче поляризуются, как и его отношения с разлагающейся действительностью.
Истоки же нового синтеза, пути к новой цельности и новой общности писатель ищет в непосредственности национального бытия, «почвы». В русской общине автору существенны не экономические, объективные, а нравственные скрепы. Путь к снятию антиномий между «личным началом» и началом «братства» брезжит для него в христианской жертвенности, однако ей, мы помним, мешает «закон я»...
Но попытка исключить из механизма разрешения этих противоречий разумные устремления личности, низводя их до «соблазна выгодой» (якобы сути идеалов социализма), возвращает автора «Зимних заметок» все вновь к первоначальной антиномии: «...кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить», требуя за это «капельку его личной свободы для общего блага». «Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах <...> Ему все кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля» (Д V, 81).
И далее в сознании Достоевского духовный мир современной личности, лишившийся ориентиров разума, раздираемый полярными устремлениями, сталкивается не только с хаосом социума, но и с общеприродным миропорядком, с онтологическими
«безднами». При этом диалогическое развертывание авторской мысли в лирической прозе не открывает перспективы разрешения таких жизненных антиномий. Такт художника подсказывает необходимость иных жанровых решений, поисков в литературе «языка», «высказывающего то, что сознание еще не одолело (не рассудочность, а все сознание)» (письмо к И. С. Тургеневу от 23.12.63). Художественно «одолеть» такие противоречия можно было, лишь объективировав их, мотивировав «всем сознанием» реального общественного индивида, исследовав этот сложнейший поток сознания в безысходности его духовных и нравственных метаний как крайнее проявление определенных социально-психологических и исторических закономерностей. Эта задача и решается «Записками из подполья» («Эпоха», 1864), где спор с детерминизмом, рационализмом передоверен эпическому герою, вернее — «антигерою». Это разночинец, прошедший, как и Достоевский, философскую школу 40-х годов, но изживающий свои разочарования и житейскую обездоленность в «подполье» отъединенности от мира. Апология в его больном сознании «своеволия», «самостоятельного хотения» психологически оправдана ущемленностью личности, ее ощущением «каменной стены» (тотальной враждебности ей законов действительности).
В полемике против утопических теорий «хрустальных дворцов» подпольный Парадоксалист погрязает в «логической путанице» (Д V, 120—121). Хватаясь за «каприз» как средство сохранения индивидуальности, он своими помыслами и действиями демонстрирует ее разрушение. Но центр тяжести в данном случае перенесен Достоевским с прямого публицистического
спора о движущих импульсах личного сознания вообще — на самое существование такой внутренне ущербной личности, находящейся в незавершимом диалоге со всем окружающим и с самой собой. Художественное открытие расколотого духовного мира Парадоксалиста, изображение безысходной противоречивости в самом процессе мысли, в сфере эмоций и желаний героя «подполья» — весомый аргумент писателя в идейном диалоге эпохи. В споре против «умников» и «гордецов», против однозначных расчетов на материальный, научный прогресс общества, на рост исторической активности, общественной солидарности человека массы. Но открытие было обоюдоострым. Лишенное внутреннего стержня, это «капризное», на грани муки и мучительства, сознание своей потерянностью взывало о помощи, мыслимой лишь извне, что означало для писателя все вновь глобальную творческую задачу утверждения «бытия Божия», вопреки «хаосу» и «неблагообразию» мира.
Потому и прямое идейное противостояние лагерю «либералишек и прогрессистов всех толков» к концу 60-х годов лишь обостряется, рождая все чаще озлобленные выпады в письмах Достоевского, занимая все больше места в думах и замыслах. Причем в центре резкого отталкивания — все та же проблема нравственно-эстетического идеала, основ этики, личных или сверхличных. «...Деизм нам дал Христа, — пишет он А. Н. Майкову 28.08.67, — то есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный! А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили? Вместо высочайшей красоты Божией, на которую они плюют, все они до того пакостно самолюбивы <...> легкомысленно горды, что просто непонятно: на что они надеются и кто за ними пойдет?»
6
Поток этого принципиального диалога выплескивается на страницы и романа «Идиот» (1868) — в гротескно заостренных тирадах его персонажей (Евгения Радомского, Лебедева), и мемуарного очерка «Старые люди» — от лица самого автора («Дневник писателя», 1873;
далее — ДП). Более того, уже в замысле серии из шести романов «Житие великого грешника», занимавшем Достоевского на протяжении 1868—1870 годов, потребность сделать этот «главный вопрос» предметом открытой этико-философской дискуссии героев-идеологов влечет за собой необходимость структурных изменений в самом романном конфликте, в расстановке персонажей, в композиции образов и сюжета. На авансцену произведений должны выступить «типы», представляющие разные идеологические лагери эпохи. Характерно, что при этом в сознании Достоевского сразу всплывает весьма репрезентативная
по силе мысли фигура Чаадаева.
Вот как 6.04.70 романист в письме к А. Н. Майкову рассказывает о фабуле «2-й повести», на которую «возложил все» надежды. Ее действие «будет происходить» в монастыре, а «главной фигурой» станет «проживающий» там «на спокое» архиерей Тихон Задонский — «конечно, под другим именем». «Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не посидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали
доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например за границей, на французском языке, брошюру, — очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие: Белинский наприм<ер>, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В монастыре есть и Павел Прусский...» Признается, что «сочтет подвигом», если удастся «вывести» «действительного Тихона» — «величавую, положительную, святую фигуру. Это уж не Костанжогло-с и не немец <...> в “Обломове”, и не Лопухины
<sic!>, не Рахметовы».
Известно, что этот масштабнейший замысел романа, построенного как открытый турнир идеологий, за персонажами — носителями которых просматривались бы фигуры реальных деятелей русской мысли, не получил описанного сюжетного воплощения. Но здесь уже намечены важнейшие структурные свойства конфликта мировоззрений, принципы создания образов их выразителей, реализованные в последующих — идеологических романах Достоевского — «Бесы» (1871—1872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы»
(1879—1880). И примечательно, что в работе над образами их героев-идеологов (в обширных черновых редакциях это отражено еще нагляднее, чем в окончательном тексте) автор настойчиво возвращается к размышлениям над личностями, особенностями мышления Чаадаева — и Герцена, причем слитно, в едином не только историческом, социальном, но идейном, психологическом ряду. И в тех немногих случаях, когда Герцен вслед за Чаадаевым прямо не назван, его присутствие в сознании Достоевского легко обнаружить: в цитированном выше письме, к примеру, — по деталям издевательств власти над «басманным философом», которые взяты явно из «Былого и дум» (далее — БиД), или по воображенному продолжению публикаций персонажа — «за границей, на французском языке», — на манер Герцена.
М. Бахтин, готовясь «к переработке книги о Достоевском», так резюмировал свои наблюдения над своеобразием отражения жизни в его творчестве: «Не типы людей и судеб, объектно завершенные, а типы мировоззрений (Чаадаева, Герцена, Грановского...)».
«И мировоззрение он берет <...> не как последовательность
системы мыслей и положений, а как последнюю позицию в мире в отношении высших ценностей. Мировоззрения, воплощенные в голосах...» Достоевский «начинает не с идеи, а с идей — героев диалога. Он ищет цельный голос, а судьба и событие (сюжетные) становятся средством выражения голосов. В плоскости современности сходились и спорили прошлое, настоящее и будущее»11.
Эти выводы можно попытаться конкретизировать
или уточнить, если проследить упорное стремление писателя слить в единый «тип», «цельный голос» в идейном диалоге романа именно резко отличные по своим основам мыслительные комплексы Чаадаева и Герцена. Речь идет о столь широком обобщении в искомом «голосе» (призванном представить «прогрессистов всех толков»), что для автора уже теряет значение не только конкретная «последовательность системы мыслей и положений», о чем резонно писал Бахтин, но в данном случае и «последняя позиция в мире в отношении высших ценностей». Ведь она, мы помним, составляла предмет принципиального несогласия мыслителя-атеиста Герцена с христианским философом Чаадаевым. Романист же стремится, очевидно, воплотить в «цельном» типе искусства еще более глубокую общность — не формулируемых взглядов, а самого строя сознания, склада мысли, свойственного, в возмущенном понимании автора, передовой личности нескольких поколений русской дворянской, «барской» интеллигенции. Если определить отторгаемое ядро типа одним понятием, то это — элитарность мышления. Его основные составляющие: повышенная опора на разум, «гордость просвещением», «скитальчество» по Европе личности, озабоченной «всемирным болением за всех» — при кружковой замкнутости мысли, неспособности пробиться к собственному народу и его нравственным идеалам.
Общие заключения о «высокомерии» этого «культурного типа» целой полосы отечественной интеллектуальной
истории, о его «отчуждении от почвы», «ненависти к России» многократно повторяются в «Записных тетрадях» Достоевского и отражаются в его поздней печатной публицистике, причем подкрепляясь свободным (от временнуй и прочей конкретной приуроченности) обращением как к литературным героям — от Алеко, Онегина, Чацкого до Рудина, так и к реальным лицам, действовавшим на общественной арене между 20-ми и 70-ми годами. В подготовительных
материалах к «Бесам», например, он писал, что Чацкий был «барин и помещик, и для него, кроме своего кружка, ничего и не существовало»: «Народ русский он проглядел, как и все наши передовые люди». «Чем больше барин и передовой, тем более и ненависти — не к порядкам русским, а к народу русскому <...> об его вере, истории, обычае, значении и громадном его количестве — он думал только как об оброчной статье. Точно так думали и декабристы, и поэты, и профессора, и либералы, и все реформаторы». Оброк был нужен, чтобы «жить в Париже, слушать Кузена и кончить чаадаевским или гагаринским католицизмом» (Д XI, 87).
В споре с либеральным профессором и публицистом А. Д. Градовским по поводу своей Пушкинской речи (1880) писатель, подыскивая аргументы о незнании «гордым человеком», «европейцем», «почвы», отказе «работать на родной ниве» (против «крепостного древнего права, среды — за границу искать подмоги»), записывает в черновиках: «Помните ли Чаадаева? Сколько отчуждения. Да чего Чаадаев. Разве Герцен. Прудон» (Д XXVI, 303). И далее — всё вновь раздраженные, лишенные всякой заботы об объективности выпады: «Ну, кто из них не был атеистом, а Чаадаев?»; «Смирение народа ими принималось за рабство. Один Пушкин лишь сказал: “Посмотрите на народ и на основу его, ну виден ли в нем раб?”. Сказали бы так Белинский или Герцен?». Именно так они и «сказали», — прерываю я «безудерж» эмоций полемиста, заставляющий его забыть и «Письмо к Гоголю», и все писания Герцена о «внутренней силе» народа, сохраненной в рабстве, начиная с эссе «La Russie»
(само же появление его в газете Прудона «Voix du Peuple» и «факт» ее поддержки русским демократом — отнюдь не забыты в полемике, а тут же становятся предметом гневных измышлений, как «продавали» крестьян «и ехали в Париж издавать красный журнал, полный мировой скорби» и т. п.)12.
Но среди многочисленных набросков и вставок на черновом автографе ответа Градовскому, в которых публицист вновь и вновь варьирует, сгущает до раздраженной гиперболы всё те же черты понимания им обобщаемого типа: здесь и «отвлеченность» мышления, и «нетерпеливость» людей, «живущих на готовом (на мужичьем труде и на европейском просвещении)», и «омерзение к народу», — мы находим несколько важных «уклонений» «в область чисто литературную». И они, в сущности, противоречат нацеленности автора-полемиста на заострение, подчас до гротеска, отрицаемых человеческих качеств в литературных образах. Эти пометы, а то и развернутые суждения касаются соотношений «лица и типа»: «Лицо есть правда, а тип только тип». И вновь тут же: «...в художественной литературе бывают типы и бывают реальные лица, то есть трезвая и полная (по возможности) правда о человеке <...> тип почти никогда не <...> заключает в себе полной правды, ибо <...> не представляет собою своей полной сути: правда в нем то, что хотел выставить в этом лице художник». Поэтому тип – «лишь половина правды», то есть «весьма часто ложь» («остальной же человек в нем» «не показан»). Приводятся примеры — Манилов и др. Следуют оговорки, что речь не об «умалении такого гения, как Гоголь»: «В сатире даже иначе и нельзя. Выставь он в Собакевиче и другие, чисто уже человеческие черты, придай ему всю реальную правду его, то не вышли бы типы, смягчилось и расплылось б то», «на что Гоголь именно хотел указать как на типические дурные черты русского человека».
Писатель сравнивает далее по степени реализма образы Простаковой в «Недоросле» («она выведена тоже сбоку и не в полной правде») — и пушкинской капитанши Мироновой («тоже тип, комическое, но вполне реальное лицо, а потому и вполне уже правдивое»). Всю жизнь она держала мужа «в комическом подчинении, казалось бы, и не уважала», но в момент расправы над ним пугачевцев нашла «в сердце своем и всю о нем правду», прокричав бесстрашно в лицо убийц, «что он удалая головушка, бравый <...> молодец». «И мы уже понимаем, что и всю жизнь она» уважала его «про себя благоговейно, а капитан понимал это». «Стало быть, тут <...> полная правда их жизни» «и умилительная правда их любви». Знаменателен окончательный вывод из этого литературно-эстетического пассажа: «...в реальной только правде художник может выставить всю суть дела и правду его, указать наконец источник зла, заставить вас самих признать “облегчающие обстоятельства”» (Д XXVI, 304,
312—314).
Перед нами веские размышления зрелого художника о принципах реалистической типизации и индивидуализации, о многостороннем изображении характера. Анализируя и сопоставляя образы известных героев, Достоевский одновременно, в сущности, четко формулирует свои требования к собственному творческому методу. Наряду с ударной остротой обобщения типического в характере персонажа, заветная цель художника — воссоздать в нем со всей возможной полнотой сокровенную жизненную «суть» личности, ее реальных отношений, ее внутренней «правды». Эти раздумья настолько переросли границы полемического первотолчка, что они, естественно, остались вне пределов окончательного текста статьи в ДП (к тому же, автор мог почувствовать и «нестыковку» таких программных положений об объективности реалистического искусства с резко субъективным настроем столь «ожесточенной», по его оценке, статьи — Д ХХХ1, 200). Притом развернутый вариант этого «Литературного урока» на полях чернового автографа не зачеркнут, а очерчен фигурной скобкой, что подтверждает, думается, важность его для автора, желательность последующей отдельной разработки (Д XXVI, 304,
314). И разумеется, необходимость учитывать приведенные мысли в общих суждениях об эстетических установках писателя.
7
Для нашей же темы описанные раздумья имеют и специфическую ценность. Они помогают, в частности, увереннее осознать само направление, отдельные этапы, конкретные нюансы в сложном процессе формирования художником таких центральных образов-типов его поздних идеологических романов, как Степан Верховенский или Версилов. В ходе многолетних изучений всего массива рукописей А. Долининым, Л. Розенблюм и другими учеными установлено, что в обширном пространстве реалий, использованных художником в работе над этими персонажами, весьма значительное место занимают детали, восходящие к действительным эпизодам жизни, свойствам личностей Чаадаева и Герцена (разумеется, в авторском преломлении). На фигуры героев проецируются отдельные подробности биографии, портрета, быта этих лиц, живые черточки психологии, вкусов, отношений их с окружающими. А главное — некоторые мировоззренческие
формулы13.
С «идей — героев диалога» и начинается движение замысла: с «поисков цельного голоса», который выражал бы общий тип сознания, участвующий в эпохальном идейном конфликте произведения. Искомый голос обозначается подчас на первых порах именем реального видного деятеля определенного идейного лагеря. Так, обобщенный строй мысли русского западника, «либерала-идеалиста» 40-х годов в диалоге с нигилистами 60-х, составляющем центральный конфликт «Бесов», первоначально условно ориентирован на фигуру Грановского. Или (как в замысле «Жития великого грешника») основы атеистической морали в противостоянии христианской должен был представлять Чаадаев (!) вкупе с его «гостями» — Белинским, Грановским... Вернее, «не Чаадаев», а «только этот тип». Но если в статье или черновых набросках романа широко обобщаемый писателем строй мысли антагониста — «героя диалога» — фиксировался, как мы видели, в эмоционально заостренных определениях или в имени известного деятеля такого склада, то для развития художественного замысла это была лишь первая стадия сложнейшей работы по превращению выделенного таким путем «сухого остатка» («типа») в новую, художественную реальность — в «цельный голос мировоззрения», то есть создаваемую воображением творца личность персонажа — носителя этого «голоса». Вымышленное «лицо» должно для этого быть связано с подлинной духовной жизнью эпохи многими нитями привычных представлений и примет, окружено знаками общей памяти, накапливающими у читателя сознательные и подсознательные ассоциации с историческим временем и его действующими лицами.
Так, сняв в окончательной редакции «Бесов» однозначную прототипическую связь героя с личностью Тимофея Николаевича Грановского, автор сохраняет легкий след ее в самом звучании, точнее, в семантико-фонетической структуре имени героя — Степан Трофимович Верховенский. Подчеркивается же в предыстории «человека сороковых годов», на которые пришелся пик общественной активности персонажа, соотнесение ее с характером деятельности лидеров «западничества» в целом, притом соотнесение и сближающее, и одновременно акцентирующее разномасштабность:
«...одно время, — впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку, — его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена».
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|