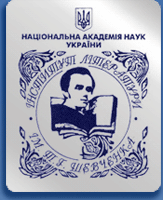Реферат: Древняя русская литература 
Есть
чем царю мне похвастати:
Я
повынес царенье из Царя-града,
Царскую
порфиру на себя одел,
Царский
костыль себе в руки взял.
По
связи с практикой московских самодержцев в последней четверти XV в. появилась у
нас повесть о мутьянском воеводе Дракуле, прославленном своей необычайной жестокостью.
Вопрос о том, является ли она оригинальной или переводной, спорен. Как бы то ни
было, повесть возникла под сильным влиянием какого-то западного образца, вернее
всего — немецкого, типа летучих листков или брошюрок, и особое значение
получила при Иване Грозном, напоминавшем современникам Дракулу своей
необузданной жестокостью.
Борьбе
за московское самодержавие была подчинена и организация в Москве летописного
дела. На основе митрополичьей хронографической компиляции 1423, так наз.
«Владимирского Полихрона», в 1442 Пахомием Логофетом создается хронограф,
проникнутый московской великодержавной тенденцией. Он дошел до нас в
переработках начала XVI в., из которых важнейшей является хронограф в редакции
1512, принадлежащей старцу псковского Елиазарова монастыря Филофею, в своем
послании к вел. кн. Василию Ивановичу окончательно сформулировавшему идею
Москвы — третьего Рима.
Около
половины XVI в. заканчивается поглощение Москвой отдельных вотчинно-феодальных
областей, сливавшихся в единое московское государство с централизованной
властью самодержавного московского царя, опирающегося на основную массу
феодального служилого дворянства и вступающего в энергичную борьбу с крупными
феодалами-княжатами и боярами, отстаивающими старые формы феодальной
раздробленности. Продолжавшаяся политическая борьба между различными группами
господствующего класса московского общества находила себе выражение в литературных
памятниках, насквозь проникнутых теперь совершенно незамаскированной
публицистической тенденцией и полемически заостренных. Виднейшим идеологом
дворянства в эпоху Грозного является Иван Пересветов, приехавший на Русь из
Литвы около 1538 и заявивший себя во второй половине 40-х гг. XVI в. как автор
нескольких публицистических повестей и челобитных к Ивану Грозному. В тех и
других он является апологетом самодержавного государства, защищающим в первую
очередь интересы дворянства. В «Сказании о царе Константине», изображая
гибельное влияние византийского боярства на царя Константина и на судьбы
Византии, Пересветов аллегорически показывает засилье боярской клики в пору
малолетства Грозного. В «Сказании о Магмет-Салтане» в замаскированной форме
представлена целая политическая программа предвосхищающая позднейшие
государственные реформы Ивана Грозного в частности учреждение опричнины. Из
этой же дворянской среды что и произведение Пересветова, вышла и «Повесть
некоего боголюбивого мужа», направленная гл. обр. против боярства.
Боярство
в свою очередь выдвигает такого незаурядного публициста, как князь А. М. Курбский,
автор писем к Грозному и «Истории князя великого Московского», написанных им
после бегства в Литву (60—70-е гг. XVI в.). Литературное значение писем
Курбского и его истории-памфлета — в ярком своеобразии его стилистической
манеры, обнаруживающей в Курбском искусного оратора, умеющего сочетать
внутреннее воодушевление речи доходящей до патетического подъема, со
стройностью и строгой формальной логичностью ее построения. Он отстаивал в
своих писаниях интересы боярства. Но такая позиция потомка ярославских князей в
условиях тогдашней политической действительности была уже программой не
сегодняшнего, а вчерашнего дня, и потому явно обречена была на неудачу.
Еще
до Курбского (в 1553—1554) в качестве защитника боярских интересов выступил
неизвестный автор публицистического памфлета, озаглавленного «Беседа
преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев». Основная мысль памфлета
сводится к тому, что царь должен управлять не при помощи «непогребенных
мертвецов» — иноков, а при помощи гл. обр. бояр и не должен давать слишком
больших привилегий воинам. Здесь сказалась оппозиция как иосифлянам —
дворянской партии в духовенстве, так и воинству, в своей основе вербовавшемуся
точно так же из дворян.
В
XVI в., особенно начиная с конца первой его половины, наблюдается усиленный
рост житийной литературы. Окончательно официально закрепившееся представление о
Москве как о третьем Риме, средоточии православной святыни, выдвинутое
идеологами московского самодержавия, побуждало прежде всего к увеличению
количества святых, специально прославивших русскую землю, и к пересмотру
подвижников пользовавшихся почитанием в отдельных областях еще до слияния этих
областей в единое Московское государство. По почину московского митрополита
Макария на соборах 1547 и 1549 производится сложная работа по канонизации новых
святых, возведению святых местно чтимых в общемосковские и в результате
пересмотра соответствующего материала деканонизации недостаточно авторитетных
областных святых. Рассмотрение и упорядочение православно-русского олимпа потребовало
написания и новых житий или исправления старых. Последнее шло как по линии
идеологической, так и стилистической: нужно было весь агиографический материал
облечь в форму того панегирически-торжественного стиля, который служил
выражением победивших придворно-самодержавных тенденций. Как и в предшествующем
веке, и теперь жития отражают однако не только официальную церковную идеологию
иосифлянства (Волоколамский патерик, житие Иосифа Волоцкого, митрополита Ионы
Кассиана Босого и др.), но и оппозиционную идеологию «заволжских старцев»
(жития Ферапонта, Мартиниана, Иосафа).
В
стороне от установившегося житийного шаблона стоит своеобразное житие, точнее
поэтическая повесть о Петре и Февронии Муромских, возникшая в середине XVI в.
весьма вероятно под пером публициста эпохи Грозного Ермолая-Еразма. В основу ее
легла перешедшая к нам очевидно из Скандинавии устная легенда, соединившая в
себе мотивы борьбы со змеем и вещей девы, отгадывающей загадки. Это
повесть-житие в форме занимательного рассказа, богатого сюжетными
подробностями, изображает жизнь двух любящих супругов — князя и крестьянки, —
сохранивших любовь друг к другу до гроба, несмотря на враждебные происки бояр,
не мирящихся с тем, что их княгиня — простая крестьянка. Автор, явно стоящий в
оппозиции к боярству, в центре своего повествования ставит крестьянскую дочь,
мудрую Февронию.
К
середине XVI в. (1552) относится окончание работы Макария над составлением и
редактированием грандиозного двенадцатитомного собрания произведений
церковно-религиозной русской книжности как переводной, так и оригинальной,
обращавшейся в многочисленных рукописях. Собрание это, известное под именем
«Великих Четьих-миней» и существующее в трех списках, из которых наиболее
полным (около 27 000 страниц большого формата) является список, предназначенный
для московского Успенского собора, по первоначальному замыслу Макария должно
было включать в себя исключительно лишь житийную литературу, но затем, по мере
работы над ним, оно вобрало в себя книги священного писания, патриотическую литературу,
проповедь, поучения и т. д., одним словом — всю наличную духовно-религиозную литературу
в той мере, в какой она не вызывала тех или иных подозрений в своей религиозной
и политической благонадежности. Впрочем в отдельных случаях в макарьевские «Четьи-минеи»
попали и произведения апокрифические, если они существовали под заглавием иным,
чем то, которое принято было в индексах «отреченных книг». Внешняя
монументальность книги должна была символизировать монументальность и
грандиозность идеи московского православного царства.
К
«Четьим-минеям» примыкала окончательно сформировавшаяся вскоре после них (1563)
«Степенная книга», составленная видимо царским духовником, священником Андреем,
в монашестве Афанасием, по инициативе того же митрополита Макария. Располагая
свой материал по степеням великокняжеских колен и излагая его в
риторически-торжественном стиле, она ставила своей целью представить историю
благочестивых русских государей, действовавших в единении с выдающимися
представителями русской церкви, преимущественно митрополитами и епископами.
Идее апофеоза Московского государства и московского царя как законного
преемника власти кесаря Августа служили и общерусские летописные своды 40—70-х
гг. XVI в., из которых наиболее значительными являются Воскресенский и
Никоновский своды и в неполном виде дошедшая до нас грандиозная историческая
энциклопедия, богато иллюстрированная множеством миниатюр, доведенная до
царствования Ивана Грозного и известная под именем «Лицевого Никоновского
свода», частично затем переработанного в так наз. «Царственную книгу».
Апология
могущества и величия Московского царства и его главы Ивана Грозного характерна
и для такого популярного памятника (сохранилось до 200 его списков), как
«История о Казанском царстве», или «Казанский летописец», излагающего судьбу
Казанского царства со времени его основания болгарами до завоевания его Грозным
в 1551. «История» является произведением, представляющим значительный интерес с
точки зрения чисто литературной. Позаимствовав манеру описания воинских картин
и даже отдельных эпизодов преимущественно из «Повести о Царьграде»
Нестора-Искандера, отчасти из незадолго до того сложившейся у нас «Повести о
грузинской царице Динаре», она в то же время отразила торжественную стилистику
произведений макарьевского периода и использовала в немалом количестве приемы и
стиль устной поэзии. Возникновение «Истории» следует отнести ко времени
1564—1566. Задачу возвеличения Грозного как благочестивого московского царя
преследует и «Повесть о прихождении короля литовского Стефана Батория в лето
1577 на великий и славный град Псков», написанная неизвестным псковским монахом
в сугубо высокопарном стиле церковных писаинй, а также в значительной мере
возникшее, видимо, около того же времени «Сказание о киевских богатырех, как
ходили во Царь-град» («Богатырское слово»), обработавшее устно-поэтическую
былину и сохранившее при этом характерные особенности былинного стиля.
Выступая
в данных условиях как организующее начало, самодержавная власть стремится
распространить свое влияние на все области жизни, вплоть до
церковно-религиозного и семейного быта. Так возникли не имеющие впрочем
отношения к литературе такие памятники, как «Стоглав», «Домострой»,
«Азбуковник». Не избегла отражения господствовавшей в Московской Руси XVI в.
националистической идеологии и литература путешествий, из которых наиболее
популярными являются связанные с именем Василия Познякова и особенно с именем
Трифона Коробейникова путешествия в Палестину, Царьград, Синай и Египет во
второй половине XVI в.
Хотя
Московская Русь и находилась в общении с Западной Европой, зап.-европейское
идейно-культурное и в частности и литературное влияние на нее в силу ее
сознательной идейной замкнутости было минимальным. Спорадически начавшиеся еще
с XV в. и в XVI в. усилившиеся переводы с западных языков (преимущественно с
латинского и немецкого) переносили на Русь сочинения гл. обр. прикладного
характера. Литературный фонд попрежнему и по формальным и по идейным своим
признакам определялся почти исключительно традиционными чертами византийской
культуры. Очень немногие в собственном смысле слова литературные заимствованные
памятники XVI в., вроде переведенного с нижненемецкого «Прения живота и
смерти», ничем специфически характерным для западной культуры не отличались.
События
крестьянской войны конца XVI — нач. XVII вв. сильно расшатали экономический
строй Московского государства и вместе с этим стройную законченность
законсервировавшей себя московской идеологии. Происходит обмирщение государства
и его духовной культуры. Московское самодержавие, выйдя победителем из борьбы,
развивает и укрепляет свою организацию. Закрепляет свои позиции и класс
служилого дворянства. Вместе с тем международные связи далекой Московии,
значительно в эту пору усилившиеся, весьма содействуют культурной эволюции и в
частности обмирщению в сфере литературной. Ослабевает мало-по-малу церковная
стихия в литературе, уступая свое место стихии светской, питающейся теперь
материалом, приходящим к нам, правда с запозданием, с Запада, преимущественно
через посредство Польши и Чехии, во многих случаях при помощи — в качестве
передатчиков — киевских литературных деятелей, В то же время значительный
доступ в литературу получает устная поэзия: с одной стороны, появляются первые
записи произведений устнопоэтического творчества, с другой — последнее
оказывает на книжную литературу более ощутительное влияние, чем это было
раньше. Старая традиция однако очищает место для новой не без борьбы, и на всем
протяжении века эта борьба или в иных случаях взаимодействие и взаимосушествование
традиции и новизны обнаруживаются еще очень явственно.
Характерным
образчиком, дающим представление о начинающейся уже смене изжитых литературных
приемов новыми формами, являются многочисленные повести, посвященные изложению
исторических событий конца XVI — начала XVII вв. и идейной своей
направленностью отражающие реакцию феодальных верхов на те политические и
социальные потрясения, с которыми связано было для него революционное движение
крестьянства.
Значительная
часть этих повестей, возникших частью спустя несколько десятков лет после
событий написана в выспреннем стиле, типичном для агиографических произведений
XVI в., и в достаточной мере приближается то к житию, то к церковному поучению,
отдавая предпочтение общим фразам и отвлеченному красноречию перед фактической
историей. Таковы в особенности «Плач о пленении и конечном разорении
Московского государства», «Повесть о некоей брани, належащей на благочестивую
Россию», «Временник» дьяка Тимофеева и др. Кое-где однако в пышную риторику
вторгается образная красочная речь, не ставшая еще общим местом изысканная
стилистика и даже написанная виршами концовка. Такова «Летописная книга»
приписываемая кн. Ив. Катыреву-Ростовскому, широко использовавшая поэтические
приемы и словесные формулы переведенной у нас в XV в. с латинского «Троянской
истории» Гвидо де Колумны и обнаруживающая в авторе знакомство с практикой
стихотворства в юго-западной Руси. Наконец широкий доступ в книжное по своей
основе повествование получает устно-поэтическая традиция, как это мы видим в
повести о кн. Михаиле Скопине-Шуйском, написанной в связи с его смертью, о
которой рассказывается и в известной лирической песне о нем, сочиненной
очевидно в Москве, записанной в 1619 для англичанина Ричарда Джемса.
В
еще большей мере, чем в повести о Скопине-Шуйском, элементы устного творчества
дают себя знать в цикле повестей о взятии русскими войсками в 1637 Азова и
особенно об осаде его турками в 1641. Последнее событие видимо вскоре же
вызвало так наз. «документальную» и «поэтическую» (по терминологии А. С. Орлова)
повести об «Азовском осадном сидении». Второй вид повести написан в форме
реляции царю Михаилу Федоровичу, облеченной в поэтическую форму, частично
обусловленную влиянием былин и «Слова о полку Игореве», последнего очевидно не
непосредственно, а через посредство повестей о Мамаевом побоище. В дальнейшем,
видимо в последней четверти XVII в., возникает в значительной степени на основе
повестей об «Азовском взятии» и «Азовском сидении» сказочная (по терминологии
того же ученого) «История об Азовском взятии и осадном сидении», еще сильнее,
чем указанные ее письменные источники, испытавшая на себе влияние устной
традиции, песенной и легендарной.
В
связи с общей тенденцией в XVII в. к обмирщению литературы это обмирщение сказывается
на одном из наиболее устоявшихся жанров древнерусской литературы, именно на
жанре житийном. Показательным в этом отношении является житие «Юлиании
Лазаревской» (ум. 1604), написанное в начале XVII в. ее сыном, муромским
боярином Каллистратом Осорьиным. Это не столько житие, сколько повесть, даже
своего рода семейная хроника, вышедшая из-под пера светского автора, хорошо
знающего подробности биографии того лица, о котором он пишет, не опускающего их
в своем рассказе и избегающего обычных житийных шаблонов. Юлиания, как это
явствует из повести о ней, ведет благочестивую жизнь не в монастыре, а в миру,
в обстановке бытовых забот и житейских хлопот, которые возлагаются на нее
обязанностями жены матери многих детей и хозяйки в своем большом хозяйстве. Традиционная
биография «святого», с детства подпадающего под исключительное влияние церкви,
не характерна для Юлиании: на первых порах, до самого замужества, она не бывала
в церкви и так. обр. значительное время жила вне ее религиозного воздействия.
Показательно, что это житие вышло из боярской среды, оппозиционно настроенной к
дворянскому государству и дворянской церкви Идеализированные женские образы
фигурируют и в возникшем видимо одновременно с повестью о «Юлиании Лазаревской»
«Сказании о явлении Унженского креста», построенном на основе символического
параллелизма и восходящем в конечном счете к устной легенде о любви двух
сестер, разлученных и затем соединившихся после смерти враждовавших мужей.
К
концу века появляются в печати получившие широкую затем известность
«Четьи-минеи» Дмитрия Ростовского — следующий этап после Макарьевских «Миней» в
собирании, редактировании и приведении в систему накопившегося житийного
материала. Основной источник труда — «Минеи» Макария — для Дмитрия Ростовского
оказывается однако не единственным, он пополняется западными — латинскими и
польскими источниками сборниками Сурия, болландистов, Скарги.
Западные
источники привлекаются в XVII веке и в области исторической литературы, как это
мы видим в хронографах второй (1617) и третьей (после 1620) редакции.
Использование польских хроник Конрада Ликостена, Стрыйковского, Мартина
Бельского дает возможность теперь русскому хроникеру пополнить свой материал
сведениями о зап.-европейских исторических событиях, ранее в хронографах отсутствовавших.
Одновременно в этих редакциях хронографа увеличиваются чисто литературные
элементы, сказывающиеся в частности в приемах характеристик и сравнений в
повестях о событиях конца XVI — нач. XVII вв., вошедших в обе редакции.
Хронографа и представляющих собой незаурядное явление с чисто художественной
точки зрения. Выдающееся место литературный элемент занимает и в сибирском
летописании XVII в., привлекающем в большей степени местный фольклорный
материал.
В
XVII в., особенно во второй его половине, наблюдается усиленный приток
переводной западной повествовательной литературы, преимущественно восходящей к
польским и чешским оригиналам и оказывающей затем влияние на развитие
оригинальной русской повести. Это было вызвано все время растущими и крепнущими
экономическими и культурными связями с Европой, широко осуществившимися в
деятельности Петра I. Меньшая часть этой литературы носит в себе еще в
значительной мере отпечаток церковной формы, большая же часть является чисто
светской как по своему стилю, так и по тематике. В числе переводных памятников
первого рода особое значение имеют такие сборники нравоучительных рассказов,
как «Великое зерцало», «Звезда пресветлая» и «Римские деяния». «Великое
зерцало», переведенное в 1677 на русский язык с одобрения за год перед тем
умершего царя Алексея Михайловича с польского оригинала, восходит к
средневековому латинскому сборнику «Speculum Magnum exemplorum», составленному
иезуитом Иоганом Майором. Оно вобрало в себя материал житийной и
апокрифически-легендарной литературы как западного, так и
восточно-византийского происхождения, а также частично и литературы светской —
повествовательной и анекдотической. При переводе на русский язык сборник
подвергся значительному сокращению (вместо 2 300 с лишком рассказов польского
оригинала — около 900 в русском тексте); католическая тенденция его была
затушевана, ученый и справочный аппарат, имевшийся в польском тексте, опущен,
отдельные статьи сличены с традиционными сборниками византийского
происхождения, вроде «Пролога». Близок по характеру к «Великому зерцалу»
сборник «Звезда пресветлая», содержащий в себе рассказы о чудесах богородицы и
переведенный у нас в 1668 с недошедшего до нас белорусского оригинала. Он
получил широкое распространение в списках XVII—XVIII вв. В 1691 появились в
переводе с польского на русский язык «Римские деяния», восходящие к популярной
средневековой книге «Gesta Romanorum». В них собраны занимательные по фабуле и
назидательные по содержанию рассказы, большей частью из светской жизни, вслед
за которыми следует религиозно-моралистическое их истолкование. Общее
количество рассказов в русском переводе, как и в польском оригинале, — 30 (в
латинском тексте их 180). Ряд повестей, входящих в «Римские деяния» (об
Аполлоне Тирском, об Евстафии Плакиде, о папе Григории), распространялся у нас
и отдельно, независимо от сборника, и в самостоятельных переводах. Многие темы
и сюжеты всех трех сборников нашли затем себе отражение у нас в русской устной
словесности.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
|