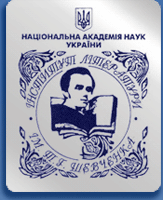Реферат: Переложение 143 псалма В.К.Тредиаковским и Ф.Н.Глинкой 
В
названиях помещенных в его книге стихотворений нет слова "псалом",
хотя в издании 1869 года "Духовных стихотворений" оно будет вынесено
в заголовки 15 сочинений. Но открывается книга произведением с названием
"Гимн Богу", в котором вынесенное на первый план определение жанра
имеет двоякий – музыкально-литературный – смысл. Взятый в качестве эпиграфа
17-ый стих из 50-го псалма "Господи! отверзи уста мои, и уста мои
возвестят хвалу твою <…>" имеет самое отдаленное значение для
понимания основного общего смысла псалма, который традиционно квалифицируется
как "покаянная молитва о прощении грехов". "Надписание в конец
означает, что этот псалом содержит в себе и пророчества, на исполнение коих,
как на цель или конец, должен обращать внимание читатель, – поясняет Евфимий
Зигабен, – ибо в этом псалме блаженный Давид не только приложил к душевным
ранам своего прелюбодеяния с Вирсавиею и смертного поражения мужа ее Урии
спасительное врачество исповедания грехов своих и покаяния в них, но коснулся в
нем и разных других предметов в пророческом духе, как, напр<имер>,
восстановления Иерусалима, совершившегося уже по возвращении иудеев из плена
вавилонского. Благодать Духа Святаго не оставляла его совершенно, так что он
между прочим прозревал и то, что вскоре будет очищен от всех нечистот греховных
и явится чище прежнего".
17-му
стиху текст псалма говорит о том, что в сокрушенной покаянной молитве Давид
просит не только о прощении грехов, но и о возвращении ему "радости
спасения Твоего". "Если Бог окажет таким образом милость кающемуся
псалмопевцу, то он в доказательство своей благодарности поставит себе задачею
обращать возможно большее число грешников и отвращать от их злых путей (ст.
15); освободившись от тяжелой кровавой вины, он будет прославлять Бога и Его
открывшуюся в прощении (1 Иоан. 1, 9) правду (ст. 16)". 17-ый стих, так
восторженно воспринятый Ф.Н. Глинкой и поставленный им во главу своего
торжественно-возвышенного гимна, весьма скупо и как-то прозаически, сухо
комментируется Евфимием Зигабеном: "По внушению пророчественному Святаго
Духа уразумел я, говорит он, что Ты снова откроешь уста мои для прославления
Тебя, точно так же, как и прежде, до падения моего, – уста, ныне осужденные на
заключение" . Более эмоционально комментировался этот стих в XIX веке, в
нем виделся действительно мощный душевный и поэтический в своей основе порыв
псалмопевца, что, впрочем, и почувствовал Ф.Н. Глинка и этот эмоциональный
настрой принял в качестве определяющей, эталонной, камертонной тональности для
своего "Гимна Богу". "Пусть только Бог простит ему, –разъяснял
преосвященный Ириней (Х.М. Орда) смысл слов псалмопевца "Господи! отверзи
уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою", – даст ему чрез это повод к
прославлению, отверзет ему уста для хвалы; тогда он принесет жертву уст,
хвалебную жертву (ст. 17); ибо такой жертвы хочет Бог; Он хочет благодарной,
благоговейной преданности сокрушающегося от раскаяния сердца, а не внешней только
жертвы <…>". И автор "Гимна Богу" начинает свое песнопение
с готовности торжественно благодарить "Царя царей":
Умолкни
вопль и шум вселенной!
Затихни
бурный стон морей!
Да
я, любовью вдохновенный,
Воскликну
песнь Царю царей! (1)
Трепетные
чувства охватывают поэта не только при обращении к Богу, но и в ожидании
мысленной или душевной встречи с Ним:
Я
весь святое трепетанье,
Восторги
грудь мою зажгли:
Парю…
ищу Творца природы,
За
ним душой в надзвездны своды
И
в бездны тайные земли!.. (1)
Величие
Бога и Его творения восторженно и неспешно описывается в трех 10-строчных
строфах. "Везде есть Бог; все в Нем" – строго ритмически начинается
торжественное славословие. Бог – "животворящий Дух", "душа
вселенной, вечный Гений", "любовь и чистый свет". "Превечный
– Он содержит вечность; / Он дланью обнял бесконечность". Бог всемогущ:
"Речет: "Не быть мирам!" – и нет!", и всем мирам
"присущны Вышнего уставы". Поэтому даже "сердцем правый"
трепещет перед Ним: посылая испытания, Он все равно правого спасет ("Хотя б
враги, гордыни полны, / Текли, кипя, как бурны волны"). Пространное
рассуждение о величии и всемогуществе Бога сменяется обращением поэта к
историческим событиям – Отечественной войне 1812 года, в гимн вводятся
конкретные примеры проявления благоволения Божьего россиянам, описываются
картины недавнего прошлого. Православно-патриотические чувства автора гимна
позволяют ему именовать Бога не иначе как "наш Бог":
Давно
ль наш Бог покрыл нас славой?
Он
спас россиян верный род!
Я
зрю дни бед войны кровавой…
Идет
неистовый народ,
Как
тигров гладная станица!
И
слышит древняя столица
И
стон полей, и гул громов!
Несет
нам враг пожар и цепи;
За
ним – кипящи кровью степи
И
область смерти и гробов! (3)
"Страшное
виденье", открывающееся поэту, представляет собой картины, где
"Повсюду буря и смятенье / И огнь стеной и кровь рекой!". Кажется,
никакой надежды не остается: "О, росс! Ты гибнешь! Кто спасет?". Но
вот начинается волнение в природе:
Темнеют
области лазури,
Завыл
стесненный ветр в лесах;
Огней
и грома полны бури
Всклубили
тучи в небесах.
Змеисты
молнии зажглися
И
вихри с вихрями сперлися,
Леса,
отскрыпнув, полегли;
Потрясся
стройный чин природы,
Дух
бури взрыл пенисты воды,
И
сердце дрогнуло земли. (4)
Всё
в природе объято неизъяснимым волнением и трепетным мистическим предчувствием
пришествия праведного Судии. И вот:
Грядет,
грядет Господь вселенной!
Грохочут
громы по следам;
Грядет,
и глас гремит священной
От
неба и до бездн: "Не дам!
Не
дам людей моих свободы!
Для
них склоню надзвездны своды;
Для
них мой щит, за них мой гром!
Где
он? Народов вождь презорный!
Как
за добычей коршун черный,
Мой
гнев за ним помчится в дом!.." (4)
Бог,
"По гласу росского народа, / По стону гибнущих сердец, / Блеснул – и где
несметны силы?". Свершился праведный суд: "Надменным – бегство и
могилы; / Смиренным – лавры и венец!". Поэт, выражая "благоговейную
преданность" Богу, поет свой благодарственный гимн:
О,
будь благословен, мой Вечный,
Творец
и Вождь небесных сил!
К
Нему мой глас, мой гимн сердечный,
Как
дым серебряный кадил;
Туда,
где жизнь иная веет,
Где
все любовию светлеет… (5–6)
Однако
эта возвышенная благодарность как бы замирает на торжественной ноте, и автор
гимна начинает сокрушаться, но не "от раскаяния сердца", как
псалмопевец, а от недостойности самого обращения к Творцу, когда "Тебе
дымятся горы! / Тебе пернатых звучны хоры! / Всё славит вечную любовь!":
Но
гаснет мой святой восторг,
И
содрогаюсь я от страха:
Я
ль, сын земли и житель праха,
Тебя
воспеть дерзнул, мой Бог? (6)
Как
видим, "Гимн Богу" ни по своему конкретному содержанию, ни по
чувствам автора, ни по главной заданности, цели повествования и обращения к
Богу никак не может быть поставлен в параллель с 50-м псалмом. Но вершинная
тональность псалма, звучащая именно в 17-м стихе (после покаянного сокрушенного
моления погрязший в беззаконии Давид взывает: "Избавь меня от кровей,
Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою" (ст. 16), а
для этого он просит о том, без чего не может состояться исполнение данных им Богу
обещаний: "Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу
Твою"), взята поэтом за основу духовной мелодики сочинения. На этой высшей
давидовой ноте прошения, граничащего уже с хвалением Бога, ведет и развивает
свою мелодию Ф.Н. Глинка, не забывая при этом, что Бог "милостиво
смотрит" только на "дух сокрушенный", ибо "сердца
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже" (ст. 19). Поэтому он и
завершает свой восторженный "Гимн Богу" ("хвалу Твою")
сокрушенно и смиренно, в тон заключительным аккордам псалма:
Что
ж я? – В сей миг благоговенья,
Я
полон чувств – без выраженья;
Я
весь восторг любви – без слов! (6)
Конечно,
открытие сборника "Опытов Священной поэзии" сочинением, в котором
отражается такая соотнесенность авторского поэтического видения с каноническими
текстами Псалтири, было не случайным, а программным. Дело, конечно, не в том,
насколько точно автор следовал за стихами псалма, а в том, что он "Гимном
Богу" показал, что в своих "опытах" не будет следовать
"буквально" за текстами псалмов, а, как мы видели, он может своей
мыслью отлетать далеко, но, подобно псалмопевцу, петь о своем, близком,
выстраданном, восхвалять Божью милость, сокрушаться "от раскаянья
сердца" или умиляться благостью Божьей и устрашаться гнева Его. В любом
случае всякое сочинение из опытов по вдохновению поэта, уносящегося душою и с
благоговением в Небеса, связано со Священными Писаниями и по происхождению
своему может быть отнесено не к светской поэзии – с ее суетностью и страстями,
плотскими радостями и огорчениями, земными бедами и весельем, а к Священной – с
ее горним светлым миром и постоянным сокрушенным покаянием в грехах земных.
Это, безусловно, не значило, что земная жизнь уходила за рамки Священной
поэзии: в "Гимне Богу" Ф.Н. Глинка как раз и показал, что не только
лирические переживания автора, но и пейзаж, и события истории, и отдельные
личности, и их дела земные могут войти в круг этой области литературы. Только
ее особенность в том, что все в ней освещается светом священным, оживляется духом
и сердцем верующего поэта, получает оценку высшего суда и строгого Божьего ока,
как все –праведное и суетное, благое и греховное, земные страсти и святые
порывы, порочное и девственное – получает свою оценку в Священных Писаниях.
Поэтому дух Ф.Н. Глинки в его сочинениях возносится так высоко, и поэт светло и
ясно смотрит на мир, как бы сливаясь своей душой с парящими над нашей грешной
землей Ангелами. Богодухновенность таланта и природы творчества позволяла ему
держать в своих стихотворениях высокую тональность Священной поэзии, на которую
он настраивался при чтении того или иного библейского текста. По авторской
добросовестности и по склонности делать при публикации своих произведений для
читателя все ясным Федор Николаевич приводил в начале стихотворений
цитаты-эпиграфы из священных текстов, творений Святых Отцов или богословов,
указывая на источник своего вдохновения, определяющий в основном духовную
тональность сочинения поэта.
Священная
поэзия Ф.Н. Глинки не только возвышенна и сориентирована на божественный дух
библейских текстов, но и глубоко лирична, выражает не только богодухновенные
признаки сочинений, но и личностные качества автора. Божественное и лирическое
начала при этом дополняют друг друга. И здесь, конечно, поэт подражал Священным
Писаниям, ибо в них всякое повествование, всякая история имеют не только
исторический и священный смысл, но и содержат поучительность, урок для всякого
ныне живущего. "<…> Книга псалмов, – указывал Евфимий Зигабен – это
общедоступная лечебница, где излечивается всякая болезнь, – это верное врачебное
средство; и что весьма достойно удивления, так это то, что слова ее
приличествуют всем людям – особенность, свойственная одной этой книге. И
действительно, нет в людях ни такого действия, ни такого намерения, ни такой
страсти, ни такого помышления, против которого не нашел бы здесь кто-либо
врачевания. Подлинно она представляет изобилие всякого созерцания и правил
жизни; это общественная сокровищница наставлений, содержащая в себе при этом
только то, что полезно. Ведь она и раны – уже застарелые – излечивает, и
человеку только что раненому доставляет быстрое облегчение от боли; вместе с
тем она предохраняет также от повреждений неповрежденное еще и вообще
уничтожает всякое страдание; и все это совершается в соединении с каким-то
отрадным успокоением и благоразумным ласканием, чтобы посредством ласковости и
мягкости речи, когда за этою ласковостию и мягкостию для нас становится как бы
незаметным слышимое нами, мы восприняли в себя пользу от этих слов. <…>
Псалом есть собеседование с Богом; он приближает к нам ангелов, отгоняет от нас
бесов, возбуждает ясное настроение в душе <…>". Может быть, поэтому
для Ф.Н. Глинки в качестве источников его опытов Священной поэзии были ближе
преимущественно именно псалмы. Через них он находил самый краткий путь к Богу.
При этом в его священной поэзии духовность соединена с чистым лирическим
чувством и обычно не осложнена теми подробностями конкретных библейских событий
и многими противоречивыми фактами биографии царя и псалмопевца Давида, трудными
для толкований и понимания современным читателем. Выбирая духовную
квинтэссенцию из воспетого в псалме, он насыщает ею свой собственный духовный и
жизненный опыт, и его опыт поистине Священной поэзии становится по своему
смыслу прозрачен и внятен, доступен не только многомудрому, но и простому
читателю. Ф.Н. Глинка здесь шел дорогой, сродной пути Псалтири к людям.
Таинственное
происхождение псалмов, да и других пророческих преданий и бытование их в
привлекательной музыкально-поэтической форме святой Иоанн Златоуст, например,
объяснял желанием Бога сделать их божественный смысл более доступным и ясным
(кстати, подобные задачи формулировал и решал в своих "Опытах аллегорий,
или иносказательных описаний в стихах и в прозе" и Федор Николаевич).
"Бог, видя, что многие из людей нерадивы, тяготятся чтением духовных
писаний и неохотно принимают на себя этот труд, – говорит Иоанн Златоуст, – и
желая сделать этот труд вожделенным и уничтожить чувство утомления, соединил с
пророчествами мелодию, чтобы все, услаждаясь стройностию напева, с великим
усердием возносили Ему священные песнопения. В самом деле ничто, ничто так не
возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет от уз тела,
не располагает любомудрствовать и презирать все житейское, как согласное пение
и стройно составленная божественная песнь". В "Опытах Священной
поэзии" Ф.Н. Глинка решал более конкретные задачи, приближенные к условиям
современной ему жизни. Он старался соединить мудрость, открытую через
библейские тексты народам всех времен, с мироощущением современного человека и
выразить это на языке отечественной изящной словесности. Поэтому в его
сочинениях священное, живительным родником бьющее из неиссякаемого источника
псалмов, соседствует с течением современных ощущений автора и, соединяясь, они
сливаются в единый светлый поток.
Сокрушенное
моление и смиренное терпение как основные мотивы в "Опытах Священной
поэзии" Ф.Н. Глинки, вдохновенное и трепетное молитвенное начало в
лирическом голосе автора, несомненно, брали для себя живительные токи из
основного духовного источника – славянской Псалтири, и сочинения, включенные в
сборник поэта, в своей эстетике сориентированы на своеобразный художественный
мир псалмов. Однако эти опыты не только вписывались в контекст духовной
православной традиции русской словесности, но и нашли определенное место в
живом развивающемся литературном процессе своего времени.
Появление
"Опытов Священной поэзии" Ф.Н. Глинки было встречено литературной
критикой в основном одобрительно. "Северная пчела" дала подробный
восторженный отзыв, поместив его длинной горизонтальной полосой в подвальной
части каждой страницы четырех номеров подряд (№№ 128–131 от 26, 28, 30 октября
и 2 ноября 1826 года). 26-летний О.И. Сенковский уверенно заявил, что "как
чтение назидательное и нравственное Опыты Священной поэзии, без сомнения,
найдут весьма многих читателей, благоговеющих к Богу и Вере и любящих чистоту
нравов; как произведения изящного стихотворства, они понравятся любителям
Поэзии".
Конечно,
собранные Ф.Н. Глинкой в единую книгу оригинальные "опыты" выводили
критиков на рассуждения историко-философского характера и требовали
определенного концептуального к ним подхода. Автор "Московского
вестника" прежде чем начать разговор о рецензируемом сборнике предпринял
длинный экскурс в историю мировой литературы и отметил, что редко можно
встретить произведения, которые действовали бы "совокупно на разум, волю и
чувства". К таким совершенным сочинениям рецензент относил произведения
Г.Р. Державина, а также указывал на тексты Священного Писания, духовная глубина
и эстетическое своеобразие которых, по его мнению, еще не до конца поняты и
освоены новоевропейской литературной традицией: "Поэзия евреев, без
сомнения, вполне удовлетворяла сим условиям (действовать "совокупно на
разум, волю и чувства". – В.З.), основывающимся, впрочем, на самой природе
человека. Таковою признана она всеми просвещенными народами и потому всем из
них служила более или менее источником вдохновения. Но будучи для нас сим
неиссякаемым источником восторга, она, кажется, не может быть перенесена в
точности ни на один язык новейший; ибо для нас существует в ней одна высота
мысли и сила чувствования, но форма ее понятна для нас менее, нежели форма
поэзии других древних народов. Она менее понятна, во-первых, по глубокой
древности; во-вторых, потому, что священные книги, бывши с самого водворения
Христианской религии известны в переводах, не поставляли в необходимость
учиться языку подлинника; наконец, и потому, что Европа долгое время видела в
песнопениях еврейских одни поучения веры. По сей-то причине, то есть по
неизвестности художнических форм сей поэзии, стихотворцы всех новейших народов
стремились почерпать из нее, как из источника истины и силы, но никто не
осмеливался передать в переводе и самую ее форму; таковым же опытам были
подвержены Омир (Гомер. – В.З.) и Исиод (Гесиод. – В.З.), древнейшие из поэтов
греческих, и даже Пиндар, менее других покоряющийся усилиям новейших" .
Автор критического разбора отмечал, с одной стороны, что "еврейские
песнопения непереводимы", с другой, что они "заключают в себе
глубокий источник поэзии, состоящий в истине и силе". Освоение этого
источника, как показал рецензент, имеет в русской словесности уже определенную
традицию. "С самого начала русского стихотворства, – писал он, – поэты
наши искали вдохновения в книгах Священных и особенно в псалмах Давида; каждый
давал им особенную форму, ближайшую к духу песнопения, но тем не менее свою
собственную. Ломоносов желал, кажется, передать во всей неискаженной простоте
смысл подлинника и как будто не имел другого намерения, кроме спокойного
возвышения духа своих читателей. Даже в Оде, выбранной из Иова, не взирая на
гиперболы, он силен не витийством, но важною простотою истины. Державин самым
выбором своих духовных песней доказывает, что имел в виду преимущественно
выгоды поэзии: он, по большей части, берет из псалма несколько высоких мыслей,
могущих усилить предмет, избранный им почти независимо от того песнопения;
часто он делает применения совершенно не в духе своего подлинника! Но цель,
предположенная им, сего требовала – и, как поэт, он прав!.. Шатров (которого
нельзя прейти молчанием, говоря о лучших прелагателях псалмов) сделал из них
совершенно новейшую оду! Нередко одной наивной мысли псалма довольно ему для
полного метрического стихотворения, изобильного мыслями, но оживленного одним
общим духом! – Все они, будучи не сходны между собою по цели и исполнению,
сходствуют тем, что искали в еврейской поэзии одного: истины и силы".
Вывод о том, что русские поэты искали в псаломных песнопениях только "истины
и силы", был, конечно, далек от литературной действительности.
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
|