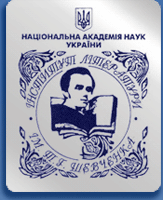Реферат: Борис Пастернак и символизм 
Нам
не удалось, однако, найти у раннего Пастернака случаи употребления слова
«бездна». Следуя канонам символистского отношения к слову, Пастернак тем не
менее избегает кочующих штампов. Таких случаев мало: это «зарницы» - в письме
1910 года («И разве не разыгрывали что-то зарницы?»; 5, 10), «закат»
(стихотворение «Гримасничающий закат...») [24], «заря» (в стихотворении «Уже в
архив печали сдан...») [25], «экстаз чистого духа» в письме 1910 года (однако,
пересказывая сюжет своей прозы, Пастернак заключает экстаз в кавычки
(«одиночество в экстазе»; 5, 21), это излюбленная символистами «мечта» (в стихотворении
«Уже в архив печали сдан...»).
С
первых своих литературных опытов, даже еще оставаясь в русле символизма,
Пастернак избегает общеупотребительного поэтического языка и дает этому
объяснение, как уже приводилось выше, в письме к Фрейденберг от 23 июля 1910
года, но еще более точно в прозе: «Называя, хотелось излить свою опьяненность
ими. В сравнениях. Не потому, что они становились на что-нибудь похожи, а
потому что перестали походить на себя».
Строй
подобного поэтического мышления почти не позволял следовать старым словам -
«остриям» символистского канона, хотя при этом Пастернак оставался в русле
эстетики, ориентированной на символизм. В этом отношении характерно
стихотворение «Так страшно плыть с его душой...». Слова в нем звезда, океан, хаос,
восходящие к общепоэтическому арсеналу, активно использовались символистами.
Однако у Пастернака они погружены в принципиально неромантический, сниженный
контекст: муть звезд, муть океана, хаос окаянный. И хотя антиномия «звезды -
океан», «дно - поднебесье», положенная в основу стихотворения, сугубо
романтична и устарела уже ко времени молодого Лермонтова, романтический,
символистский каркас решен иными, присущими Пастернаку, поэтическими
средствами.
Среди
символистских ориентиров раннего Пастернака - тема зеркала, зеркальной
поверхности. Эта тема у Пастернака будет для нас ориентиром в эволюции поэта и
в эволюции его отношения к символизму. Как правило, зеркало позволяет
использовать преимущество двойного видения и совмещение реальной и отраженной
действительности. Однако у Пастернака зеркало не только отражает, но исполняет
в ранней лирике «функцию» несостоявшегося будущего и несостоявшегося прошлого,
которое, не будучи «зафиксировано» в зеркальной реальности, превращается в
несостоявшееся будущее. Зеркало Пастернака имеет особое отношение к течению
времени.
И
если бы любовь взяла
Со
мной, со мною долю были,
У
дребезжащего стекла
Мои
черты с тобой застыли.
Играй
же мною, утро крыш,
Играй,
богини изголовье,
Как
шевелящийся камыш,
Заглохший
город над любовью.
И
потому в первой строфе опрокинутое в прошлое стихотворение (с его
грамматическими признаками прошлого - «взяла», «застыли»), перетекая во второй
строфе через настоящее (с его грамматикой настоящего времени, выраженного
повелительным наклонением - «играй»), выходит в трагическое для лирического
героя будущее («закличет»).
В
стихотворении «Уже в архив печали сдан...» падающее, но не разбившееся зеркало
стало фабулой. Но помимо «стекла» появляется еще одна «зеркальная» поверхность
- окно, с помощью которого вводится устойчивый для символистов закатный пейзаж
(в духе «винно-красных», «винно-золотых» эпитетов Белого). Двоится как бы сама
идея двойничества:
Уже
в архив печали сдан
Последний
вечер новожила.
Окно
ему на чемодан
Ярлык
кровавый наложило.
Во
второй строфе появляется еще одно - третье - «зеркало»: знак, который является
отражением иного, мифологического сознания:
Перед
отъездом страшный знак
Был
самых сборов неминучей -
Паденье
зеркала с бумаг,
Сползавших
на пол грязной кучей.
В
финале «заря», наложившая через «окно» (первая строфа) «ярлык» и как бы
предвосхитившая появление «зеркала»-знака, отождествляется с зеркалом,
отражается в нем, как бы высвечивая иное - «четвертое измерение» (одно из
стихотворений раннего Пастернака так и начинается: «Грозя измереньем
четвертым...»):
Заря
ж и на полу стекло,
Как
на столе пред этим лижет.
О
счастье: зеркало цело,
Я
им напутствуем - не выжит.
В
стихотворении, предвосхищая будущего Пастернака (и может быть, даже передачу
своего лирического «я» главному герою в «Докторе Живаго»), происходит
интересная трансформация лирического героя: сначала он подан в эпическом ключе,
дистанцирован и объективирован - это «новожил» (пастернаковское
словообразование, вероятно, впервые употребленное именно им и полученное от
сокращения двух слов - «новый жилец»). И только в конце появляется «я».
Для
отражения Пастернаку не обязательно зеркало.
Отраженная
действительность - прямо или косвенно - присутствует в некоторых других
стихотворениях и набросках, к примеру в «Весне»: «Прохожих лица - зерна снега,
/ И адский пламень карих зорь / Занялся над кобылой пегой».
С
помощью зеркала Пастернак создает, как можно было бы подумать (если бы не
притяжательное местоимение в женском роде «самой»), автопортрет: «Там, в
зеркале, они бессрочны, / Мои черты, судьбы черты, / Какой себе самой заочной /
Я доношусь из пустоты!»
И
здесь мы приближаемся к другой теме Пастернака, сближающей его с символистами:
ее условно можно обозначить как андрогинизм. Это проявилось в стихотворении «И
был ребенком я. Когда закат...», заканчивающемся: «Ах, я умел так странно
сострадать. / Ступням скрещенным девушек в цистерне».
Этот
же мотив присутствует и в ранней прозе (приводим диалог):
«
- Откуда ты знаешь, что я настолько не мужчина и не мальчик, что пойму тебя?
-
Да, правда, грусть это что-то высоко женское».
Из
приведенного диалога потом вырастет «Детство Люверс», повесть, которая не
случайно так высоко будет оценена за проникновение в пограничное состояние
андрогина-подростка Михаилом Кузминым.
Чтобы
завершить анализ ранней лирики Пастернака, обратимся еще к одному стихотворению
и связанному с ним «сюжету».
В
выборе темы и ритмического рисунка Пастернак 1910 года иногда - вольно или
невольно - идет за образцами поэзии, которые были в те годы «на слуху». Так, в
начальной строке стихотворения «Опять весна в висках стучится...» могло
сказаться влияние Брюсова. Конструкция «Опять...» в начале стиха, безусловно,
была и до Брюсова - у Пушкина («Опять увенчаны мы славой...», «Опять я ваш, о
юные друзья!..»), у Лермонтова («Опять, народные витии...»), у Тютчева («Опять
стою я над Невой...»). Но актуализовал этот прием Брюсов, у которого
насчитывается около 23 стихотворений, начинающихся с «Опять...». В 1922 году
Брюсов напишет «Домового», где проявились экспрессивные возможности четырежды
повторенного опять: «Опять, опять, опять, опять / О прошлом, прежнем, давнем,
старом, / Лет тридцать, двадцать, десять, пять / Отпетом, ах! быть может,
даром!»
У
нас нет свидетельств того, что Пастернак читал стихотворение Брюсова 1907 года
«Который раз» с первой строкой «Опять весна. Знакомый круг...». Есть только
косвенное: упоминавшееся письмо А. Л. Штиху от 26 июля 1912 года из Марбурга.
Правда, пастернаковское стихотворение, о котором пойдет речь, к тому времени
уже было написано (напомним, что предположительно стихи из студенческих
тетрадей датируются 1910 г.). Однако контекст письма, а точнее, деталь,
связанная с тем, что автор путает название запрашиваемой им книги («Пути» ли
это «и перепутья», или же «Все напевы»; 5, 72), свидетельствует об обратном:
тесном знакомстве с книгой, так как, только держа ее в руках, можно было
узнать, что третий том собрания стихов «Пути и перепутья» (М., 1909), как раз
со стихами 1906-1909 годов, вышел с заглавием «Все напевы».
У
Брюсова: «Опять весна. Знакомый круг / Замкнут - который раз! / И снова зелен
вешний луг, / В росе - вечерний час». У Пастернака: «Опять весна в висках
стучится, / Снега землею прожжены, / Пустынный вечер, стертый птицей, /
Затишьем каплет с вышины».
Вполне
вероятно, что Пастернак не знал или не помнил брюсовского произведения, когда
писал свое. Более того: перед нами вполне... тривиальная констатация факта,
которая в словесном плане настолько прозаична и буднична, что и не претендует
на напряжение поэтического слова. Это столь же банально, как возможная
констатация других повторяющихся явлений природы: «опять зима...», «опять
утро...», «опять вечер...».
Но
предположение о полной независимости Пастернака от Брюсова не исключает
возможности сопоставления двух стихотворений. В их основе - описание цепи
извечного круга бытия, выраженного у Брюсова в названии - «Который раз». Но как
по-разному решается у Брюсова и Пастернака общая тема! Сталкивается
безукоризненное мастерство, тончайшее владение темой, всеми поэтическими
средствами (Брюсов) и поэтический захлеб, ученичество (Пастернак). С. Соловьев
писал о сборнике «Все напевы» то, что можно отнести и к разбираемому
стихотворению: «В новой книге Брюсова мы находим все дорогие нам черты его
поэзии: 1) математическую точность слова. Его строфы замкнуты, как
алгебраические формулы... 2) гармоничность стиха, искусное пользование рифмами
и аллитерациями...» [26].
Ничего
этого нет у Пастернака. Но его стихотворение от этого ничуть не проигрывает.
Скорее наоборот: мастерство восполняется творческим напряжением. Можно увидеть
у Пастернака спор — вольный или невольный - с Брюсовым. В брюсовском «который
раз» есть, несмотря на заявленную С. Соловьевым в «весовской» рецензии
«исключительную пламенность и нежность» [27], холодность и успокоение. Если это
и радость, то радость умудренного опытом человека, довольствующегося тем, что
ему суждено еще раз увидеть весну, еще раз влюбиться. Холодная радость. Хотя
после повтора рефрена «который раз» в каждой из четырех строф ставится
восклицательный знак. Масштаб Брюсова, как всегда, - века: «А месяц смотрит с
высоты - Веков холодный глаз».
У
Пастернака масштаба-то как бы и вовсе нет, а если есть, то масштаб одного
вечера. У Брюсова устойчивые приметы весны, о которых он знает заранее
(стихотворение написано, как помечено, в феврале, когда еще «вешний луг» не мог
быть «зелен», а «вечерний час» не мог быть «в росе»). Пастернак описывает
конкретные приметы весны одного вечера (у Брюсова «вечер» тоже обозначен; это
дает еще один повод к сопоставлению двух стихотворений). Отсюда поразительные
детали: «Снега землею прожжены, / Пустынный вечер, стертый птицей, / Затишьем
каплет с вышины».
В
последней строфе - трагическое ощущение хода человеческого существования, не
совпадающее с традиционным восторгом перед неизменностью круга бытия у Брюсова:
«Все тишь! Пока лишь чье-то сердце / Безлюдия не полоснет, / Пока заплакавшие
дверцы / Не свергнут запустений гнет».
При
всей близости на уровне темы и словесного совпадения Пастернака и Брюсова,
гораздо ближе пастернаковскому стихотворению строй блоковского описания весны
(1910), которого молодой поэт, создавая «Опять весна в висках стучится...»,
скорее всего прочесть не мог: «Дух пряный марта был в лунном круге, / Под талым
снегом хрустел песок. / Мой город истаял в мокрой вьюге, / Рыдал, влюбленный, у
чьих-то ног».
Именно
в связи с Блоком Пастернак в очерке «Люди и положения» дает ответ на еще один
поставленный собой вопрос: «Что такое литература в ходовом, распространеннейшем
смысле слова?» И дает ответ, на первый взгляд довольно скептический, но в
котором можно увидеть и некое противопоставление двух (может быть, и не двух, а
более) несходных типов поэтов, представлять которые могли бы Брюсов и Блок
(вероятна другая пара: Бальмонт и Блок или Белый - Блок): «Это мир красноречия,
общих мест, закругленных фраз и почтенных имен... И когда в этом царстве
установившейся и только потому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет
рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и
хочет сказать, это производит впечатление переворота, точно распахиваются двери
и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том,
что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и
с Блоком» [28].
Город
Блока оказал определенное воздействие на город Пастернака, хотя эти города не
совпадают топографически (топография к общему ходу литературы отношения не
имеет). Однако в пастернаковском городе остаются ориентиры и брюсовские. Даже в
знаменитом стихотворении «Февраль. Достать чернил и плакать!..», появившемся
впервые в «Лирике» и помещенном позже в раздел «Начальная пора» в книге «Поверх
барьеров» (1929), есть соблазн увидеть, как и в стихотворении «Который раз»,
некую перекличку с «Февралем» Брюсова (написанное в 1907 году, оно тоже входит
в книгу «Все напевы») [29].
Между
ними более различий, чем черт сходства, хотя можно предположить, что толчком
(литературным, не житейским) к созданию пастернаковского «Февраля...» был
брюсовский «Февраль». Как и в стихотворении «Который раз», в «Феврале»
описывается этот зимний месяц гипотетически, до его наступления (Брюсов
датирует стихотворение 31 января): «Свежей и светлой прохладой / Веет в лицо
мне февраль. / Новых желаний - не надо, / Прошлого счастья - не жаль».
Далее
Брюсов прибегает к устоявшейся символистской лексике: «нежно-жемчужные дали»,
«закат», «как в саркофаге, печали», «миг», - которая не несет на себе
смыслового напряжения и важна лишь в контексте воссоздания символистского
настроения. Выбивается из этого стертого смыслового ряда строка «Зыбкого сердца
весы», хотя в целом в стихотворении возникает некая стихия гармонии и
примирения с жизнью: «Весь подчиняюсь движенью / Песни, плывущей со мной».
И
совсем иная - трагическая - тональность в пастернаковском «Феврале...». «Весна
черная» - смысловое и образное ядро стихотворения. С ним связаны чернила. Можно
предположить, однако, что изначальный импульс «черной поэтике» в стихотворении
задан «чернилами».
В
свое время Бальмонт («Под северным небом», 1894) экспериментировал со звуком
«ч»: «...Чуждый чарам черный челн. / Чуждый чистым чарам счастья / Челн
томленья, челн тревог...» («Челн томленья»).
Пастернак
не так нарочито, как Бальмонт, но тем не менее на протяжении всего
стихотворения тоже возвращается к фонеме «ч» в сочетании со звуковым рефреном
«черн...»: еще раз повторяются «чернила» во второй строфе, в последней строфе
появился глагол «чернеют». К этому звуковому ряду подключаются другие слова:
«грохочущие», «сличил», «тысячи грачей», «очей» (в редакции 1928 года еще
добавляется «чем»). К мотиву черного подключается и эпитет «обугленный», а к
«весне черной» - «вода чернеет».
Вероятно,
метонимический принцип и определил выстраивание взаимопроникающих образных
рядов: 1) ряд, связанный с субъективным миром поэта и его переживаниями
(«достать чернил и плакать»); 2) ряд, отражающий действительность («весна
черная»). Два этих образных ряда совмещаются в строках: «...где ливень / Сличил
чернила с горем слез...».
В
стихах Пастернака эпохи «Лирики» и «Близнеца в тучах» перекрещиваются разные
символистские явления. Следы некоторых из них невозможно идентифицировать - это
«кочующие», общие символистские приемы. Например, в стихотворении «Сегодня мы
исполним грусть его...» ритм подчеркивается повтором слова «таково»:
Сегодня
мы исполним грусть его -
Так,
верно, встречи обо мне сказали,
Таков
был сумрак. Таково
Окно
с мечтой смятенною азалий.
Таков
подъезд был. Таковы друзья [30].
Но
в том же стихотворении есть и символистские приметы, поддающиеся расшифровке. К
примеру, «азалии» после знаменитых: «Я лежал в аромате азалий...» Брюсова («В
будущем», 1895) не могли не напомнить о предшественнике. Другое дело, что
азалии погружены в разный контекст: у Пастернака он будничен и повседневен (это
часть быта) и не претендует, как у Брюсова с его тяготением к эксплуатации
внешней формы слова, на эпатаж.
Однако
даже знаменитый «Вокзал» дает основание вспомнить (на тематическом уровне) и
раннего Брюсова [31] - второе стихотворение из его цикла «Осенний день» (1894):
«Ты помнишь ли мучение вокзала, / Весь этот мир и прозы и минут...»
Пожалуй,
лишь две процитированные брюсовские строки сопоставимы с пастернаковскими (по
передаче нервного возбуждения, обычного на вокзале). Но сличение поздней
редакции «Вокзала» (1928) с ранней (1913) [32] позволяет, быть может, сделать
одно наблюдение: зрелый Пастернак убирает символистский флер загадочности и
грез. Следует заметить, что в иных случаях Пастернак в 1928 году подчеркивал и
не затушевывал символистскую стилистику. Но здесь он убирает многое, что было
характерно для символистов. Убирает «мерцание» блоковского ощущения иной,
высшей действительности, присутствия «ее». В редакции 1913 года: «Бывало,
посмертно задымлен / Отбытий ее горизонт...» Редакция 1928 года: «Бывало, лишь
рядом усядусь - / И крышка. Приник и отник».
Убирает
Пастернак излюбленное символистами погружение в строй стихотворного потока
иноязычных выражений (заодно неизбежно снимались семантически и ритмически
связанные с варваризмами соседствующие строки - прикрепленные к ним):
«Отсутствуют профили римлян / И как-то - нездешен beau monde»; «И в пепле, как
mortuum caput, / Ширяет крылами вокзал».
Убирает
Пастернак слова и образы из еще более старого - романтического арсенала,
перекочевавшие в символистский: «И трубы склоняют свой факел / Пред тучами
траурных месс, / О, кто же тогда, как не ангел, / Покинувший землю экспресс?»
[33].
Но
стилевой строй тех мест, которые Пастернак снимал, свидетельствует о том, что
поэт стремился уйти от «поэтики общих мест» (С. С. Аверинцев), наличествующей в
брюсовском стихотворении «Ты помнишь ли мучения вокзала...»: «...Я видел сон
мерцающих видений, / Я оскорбить молчание не мог».
Пастернак
же идет дальше Брюсова. Надо воздать должное: Брюсов в начале 1890-х годов сумел
возвести в разряд поэтического то, что ранее никому не удавалось. На этом пути
были проигрыши, например появление «застенчивого купе». А Пастернак - особенно
в редакции 1928 года - шел по трудному пути «проигрышей», обыгрывая в
поэтическом ряду быт: вместо «отбытий», «римлян» и «beau monde» появилось более
прозаическое, причем со сниженной лексикой («цапать»): «Бывало, раздвинется
запад / В маневрах ненастий и шпал / И примется хлопьями цапать, / Чтоб под
буфера не попал».
История
другого, ставшего хрестоматийным, стихотворения «Венеция» (так же, как и
«Вокзала») воссоздана автором в очерке «Люди и положения».
Не
будем гадать, помнил или нет, знал или не знал Пастернак «поэтическую
этимологию» Венеции в поэзии 1910-х годов. «Ближняя» этимология - стихотворения
Брюсова о Венеции: «Лев святого Марка», «Венеция» (1902) из книги «Urbi et
Orbi» и «Опять в Венеции» (1908) из книги «Все напевы». Пастернак, помня, что
до него Венецию уже воспевали тысячи поэтов, в «Охранной грамоте» знакомит нас
с «отраженным» видением города. Он воссоздает даже «текстовую» рамку (по
Лотману, ею является рама в живописи, сцена - в театре): «Когда я вышел из
вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном
стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги... Оно почти неразличимо
опускалось и подымалось и было похоже на почерневшую от времени живопись в
качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция».
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
|