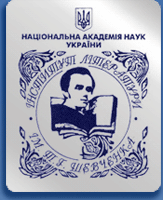Курсовая работа: Тургенев, античное наследие и истина либерализма 
Этот
канон и в своей исходной антично-римской форме, и в своих рецепциях и
стилизациях Нового времени отличался прежде всего идеей и идеалом цельности. И
именно она, цельность, исчезала из обихода культуры, из самого ее принципа и
первоначала, в трансформациях середины XIX столетия. Отныне в них теперь
наглядно сопоставлялись две системы критериев и ценностей. С античным наследием
связывалось представление о высокой гражданской норме (в виде прямой верности
ей или в виде условного и демонстративно-игрового предпочтения ее
гедонистической противоположности), о классическом равновесии объективного и
субъективного начал в жизни и в искусстве, о совершенстве эстетической формы
как выраженном единстве личного таланта художника и ответственности его за
воздействие на общество. Мировоззрение, шедшее на смену, строилось на понимании
ценности рядового человека, важности условий его повседневно-трудовой жизни,
народно-национальной субстанции его существования. Культура, выигрывая в
гуманизме, теряла в историческом масштабе и чувстве своего единства; искусство,
выигрывая в остроте и точности передачи всего личного и характерного, теряло в
гармонизующей силе прекрасного.
Соответственно,
грандиозный переворот, пришедшийся на вторую и третью четверти XIX столетия,
нес в себе коренные изменения во всех сферах жизни — от становления реалистического
искусства до утверждения парламентской демократии, от гуманистического внимания
к “маленькому”, частному человеку до появления идеи научного социализма. Но на
глубинном уровне он предполагал прежде всего замену нормативного мироощущения
цельности упраздняющим всякую цельность многообразием противоречий. “Довериться
абсолютному различию” призывал Гегель в открывавшей наступающую эру
“Феноменологии духа”16 .
Античный
мир и, соответственно, античное наследие перестало нести в себе то общественное
содержание, которое было ему присуще в древности и — подспудно или осознанно —
сохранялось в нем на протяжении последних нескольких столетий, — содержание
универсальности гражданской нормы, ощущение идеального единства гражданского
коллектива. Весь этот укорененный в государственном бытии и в правовом мышлении
строй жизни теперь уступает место не столько сохранению и утверждению интересов
общественного целого, сколько разоблачению сил, противостоящих друг другу, —
растущему обострению социальных конфликтов, обособлению классовых интересов,
партийности как новой форме общественного бытия. Возникает идеология, которой
предстоит отныне и на полтора века вперед пронизывать общественную жизнь.
“Вся
предшествующая история человечества была историей борьбы классов”. С этого
афоризма начинался один из манифестов новой эры. И дальше: “Буржуазия совершила
величайший прогрессивный переворот в истории человечества. Она утопила в
ледяной воде эгоистического расчета все порывы набожной мечтательности и не
оставила между людьми никакой иной связи, кроме безжалостного чистогана”17 .
И
здесь-то начинается самое главное. Исчерпаться борьбой контрастных начал,
ледяной водой и безжалостным чистоганом, их переживанием и отражениями культура
не смогла; если и смогла, то смогли не все ее типы. В ней обнаружились духовные
организмы, которым остро потребна была целостность культуры и культура
целостности — “иная связь между людьми”. Этот строй мыслей и чувств, как
выясняется, имеет прямое отношение ко всему тому, что обозначено в заглавии
настоящих заметок, — к Тургеневу, к философии либерализма, к его
нравственно-исторической истине, а через все это — к маячащему в глубине
призраку античного наследия. Характер “античной соотнесенности” Тургенева
придает его роли в описанном процессе эпохальной перестройки европейской
культуры особый смысл. Отношение Тургенева к сложившейся универсальной духовной
ситуации — всегда разобщенной, конфликтной, ориентированной на выбор — поражает
свободой от предвзятых предпочтений. Он чаще всего стремится не выбирать между
полюсами конфликта, а понять каждый, стремится исходить из противостояния,
обнаруженного в жизни, а не подчинять ее односторонне понятой ценности — той,
которая представляется говорящему более высокой. В этом смысле он в особой
форме сохраняет верность, разумеется, не античному канону как таковому, не его
идеям или его эстетике, а его исходному принципу и общему духу целостности и
меры. Mиtron бriston, “мера есть наилучшее”, — говорил один из семи греческих
мудрецов.
IV
Признание
Тургенева либералом, а его мировоззрения — либеральным образует одно из самых
устойчивых клише истории литературы. Оно опирается на признания самого
писателя, на суждения современников, на традицию литературоведения и сомнений
вызвать не может. Сомнения возникают там, где требуется определить содержание
такого либерализма.
В
русском словоупотреблении еще тургеневского времени “либерализм” в соответствии
с латинской его этимологией (liber — “свободный”, liberalis — “достойный
свободного человека”) ассоциируется со “свободой”. В частности — в двух ее
аспектах. Либерал — человек, свободный, независимый от диктата власти, и
либерал — человек, свободный, независимый от господствующих идей времени и
диктата общественного мнения, от социальных и политических сил, эти идеи
воплощающих. В обоих случаях понятие либерализма тем самым включалось в
социально-политические и духовные конфликты времени — и фактически ими
исчерпывалось. Для консервативного крыла независимость от власти представала
характеристикой в основном отрицательной, для так называемого прогрессивного
крыла — положительной. Во втором случае понятие “либерал”, кроме того,
окутывалось отрицательными коннотациями, поскольку каждая из действующих
общественных сил видела в такой независимости отступничество от собственных
ценностей.
В
общественном мнении эпохи к либерализму Тургенева прилагались обе эти шкалы
оценок. Факты, сюда относящиеся, слишком известны. С одной стороны,
разоблачение крепостничества, благожелательная чуткость к революционной
молодежи, критика пореформенных порядков и лиц, эти порядки осуществлявших, и
мн. др. С другой — приветствие Александру II, разрыв с редакцией
“Современника”, несогласие со многими взглядами Герцена, “памфлетический тон” в
“Дыме”, равно распространяемый на карьеристов придворных и карьеристов от
революционного слова, и опять-таки — многое другое. Либерализм, таким образом,
прочитывался в категориях и противостояниях той противоречивой
социально-политической действительности, которая образовывала фактуру
общественной жизни начиная по крайней мере со второй четверти XIX века.
Между
тем суть своего мировоззрения сам Тургенев неоднократно характеризовал совсем
по-иному. С этой точки зрения ключевое значение имеет его статья 1869 года “По
поводу “Отцов и детей””.
“Господа
критики вообще <....> убеждены, что автор непременно только и делает, что
“проводит свои идеи”; не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину,
реальность жизни — есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина
не совпадает с его собственными симпатиями. Позволю себе привести небольшой
пример. Я — коренной, неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не
скрываю; однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице
Паншина (в “Дворянском гнезде”) все комические и пошлые стороны западничества;
я заставил славянофила Лаврецкого “разбить его на всех пунктах”. Почему я это
сделал — я, считающий славянофильское учение ложным и бесплодным? Потому что в
данном случае таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь, а я прежде
всего хотел быть искренним и правдивым”. И несколькими страницами далее: “Нет!
Без правдивости, без образования, без свободы в обширнейшем смысле — в
отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему
народу, к своей истории, — немыслим истинный художник; без этого воздуха дышать
нельзя”. В качестве примера такой несвободы Тургенев приводит “Войну и мир”
Толстого, несмотря на всю силу его художественного дара, благодаря которому он
“стоит едва ли не во главе всего, что явилось в европейской литературе с 1840
года”.
В
тексте статьи приведены также две цитаты, призванные подтвердить основную
мысль. Одна из Гете:
Greift nur hinein in’s volle Menschenleben!
—
“Схватывайте
жизнь человеческую во всей ее полноте!” (Мы осмелились предложить свой перевод
вместо перевода Тургенева, воспользовавшись его самоаттестацией: “Запускайте
руку (лучше я не умею перевести) внутрь, в глубину человеческой жизни!”).
Другая из Пушкина:
…дорогою свободной
Иди,
куда влечет тебя свободный ум…
(курсив
в обоих случаях — Тургенева).
С
основной мыслью цитируемой статьи в особой форме перекликается фраза в письме
Тургенева Герцену от 27 октября 1862 года: “Имей дух и смелость посмотреть
черту в оба глаза”.
Что
здесь, собственно, сказано? Истина заключена в художественном воспроизведении
полноты жизни, независимо от идеологических предпочтений автора. Главным
условием выполнения такой задачи является внутренняя свобода художника. Ее
слагаемым и предпосылкой является образование. Оно не ведет к “предвзятым идеям
и системам”, а обеспечивает свободу в отношении к “своему народу, к своей
истории”. В этом контексте неприязнь к славянофильству и открытость
западничеству не сводятся к выбору между данными общественно-политическими
“идеями и системами”, но предполагают “в обширнейшем смысле” широту
исторического и культурного, а главное — нравственного горизонта.
Приверженность же абстрактно-теоретически выстроенным построениям даже
применительно “к своему народу, к своей истории” ведет, как в случае Л. Н.
Толстого и его романа “Война и мир”, к утрате внутренней свободы и — что
означает то же самое — художественной проницательности и, значит, таланта, даже
такого огромного, как в данном случае. Любопытно, что в качестве рубежа в таком
развитии от свободного та-ланта к теоретическим идеям и системам Тургенев
называет 1840 год — год, который, кажется, в жизни обоих художников ничем
особенным не примечателен, но как начало “сороковых годов” более других
ассоциировался у многих людей тех лет с началом перемен, если не создавших, то,
во всяком случае, приведших к осознанию конфликтной социально-классовой
ситуации середины XIX столетия и, следовательно, к необходимости выбора между
“идеями и системами”. Обрисованное мировоззрение опирается в глазах Тургенева
на культурно-исторический опыт более раннего поколения, Гете и Пушкина — тех,
что завершали эпоху, данной ситуации предшествовавшую.
Итоговая
формулировка, особенно ясно подтверждающая именно такой характер мировоззрения
Тургенева, принадлежит уже нашему времени. “В отличие от своих великих
современников, Толстого и Достоевского, он не был проповедником и не желал
потрясти свое поколение. Ему было важно понять, вникнуть во все взгляды,
идеалы, нравы тех, кому он сочувствовал, и тех, кто приводил его в
замешательство и даже отталкивал. Тургенев в весьма высоко развитой форме
обладал тем, что Гердер называл Einfuhlen, — он умел вникнуть в убеждения,
чувства и позиции, чуждые, а то и противные ему; об этом его даре особенно
напомнил Ренан в надгробной речи <…> Поскольку он не стремился навязывать
читателю свое мнение, проповедовать, обращать, он оказался лучшим пророком, чем
оба эгоцентричных, сердитых литературных гиганта, с которыми его обычно
сравнивают, и разглядел рождение социальных проблем, которые стали с тех пор
общемировыми”18 .
Социальные
ли это проблемы и стали ли они общемировыми — вопрос спорный. Бесспорно лишь,
что в середине XIX века на фоне нарастающей конфликтности общественного бытия и
нарастающего тяготения общественного сознания к выбору своего и отрицанию всего
чужого негромко, но внятно высказалась потребность культуры: не всегда думать о
чёрте и о каком-либо одном из его глаз, воспроизвести “истину, реальность
жизни” во всей ее полноте, а для этого найти в себе опирающуюся на образование
внутреннюю свободу. Свобода при таком подходе имеет возможность опереться на
свою внутреннюю исходную форму — liber и liberalis.
Принадлежность
Тургенева к этому либерализму в его “истине и реальности” задана внимательному
читателю вполне очевидно. Можно напомнить о двойственных заглавиях его
рассказов — “Пунин и Бабурин”, “Чертопханов и Недопюскин”, “Хорь и Калиныч”, —
где сюжет социально и культурно-исторически вполне конкретен, но дан через
многозначность жизненных вариантов. Можно напомнить и о только что приведенном
тексте-декларации 1869 года (и многих сходных, варьирующих те же мысли). Можно
напомнить о первом стихотворении в прозе “Деревня”19 , напомнить, наконец, об
удивительных концовках его романов. “Каждый остается тем, чем сделала его природа,
и больше требовать от него нельзя”, — говорит Лежнев Рудину в последнем их
разговоре. Тургенев не хочет идеологически или социально-политически, ни даже
нравственно требовать ни от венсенского стрелка раскаяния в своем выстреле, ни
от убегающих с баррикады insurgйs — благодарности и сочувствия Рудину, ни от
самого Рудина, “помахивающего и знаменем, и саблей”, — бульшей глубины,
серьезности и ответственности сверх тех, что дала природа “лишним людям” 40-х
годов. А “два уже дряхлые старичка — муж с женою”, приходящие на могилу
Базарова? “Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле”,
цветы, растущие на ней, говорят не столько о нем самом, сколько “о вечном
примирении и о жизни бесконечной”. Вряд ли можно без насилия над текстом Лизу
Калитину, Елену или героиню “Порога” приколоть, как бабочек в коллекции, к их
социальной среде и политическим взглядам, отвернувшись от главного в них — от
их “русскости” и их времени, от того, “как сложилась жизнь”.
У
пейзажей “Записок охотника” — и в первую очередь у аккорда несказанной прелести
“Лес и степь” — есть (или, вернее, может быть найден) контекст. Немного лет
ранее в “Красном и черном” Стендаля мэр господин Реналь внимательно смотрит на
открывающийся неподалеку лес, чтобы прикинуть, какую прибыль он может принести.
Намного лет позже герой “Голубой чашки” Гайдара идет с дочкой по степи и
внимательно оценивает окружающее с точки зрения недавнего политического
прошлого. “Красное и черное” — прекрасный роман, как “Голубая чашка” —
прекрасный рассказ; господин Реналь — обычный и по-своему честный человек,
герой Гайдара — прекрасный гражданин и семьянин. Только их лес и степь из
другой галактики: они общественно-конкретны и социально заданы, выбор и оценка
их не свободны. Сущностно не либеральны.
В
какой мере такой либерализм в его свободной широте связан с античным наследием
— с каноном цельности? Вопрос — не праздный, поскольку и тот, и другой не
исчерпывают жизнь переживанием ее социально-классовой дифференциации и
религиозно-философской конфликтности, тот и другой сосуществуют, а значит, в
какой-то мере и форме взаимодействуют в духовном опыте Тургенева и его
поколения.
Косвенные
подтверждения последнего предположения в текстах Тургенева найти можно. В
письме Анненкову от
1
августа 1859 года Тургенев описывает торжественные приготовления к въезду
Наполеона III в Париж после подписания капитуляции Австрии — к въезду, явно
рассчитанному на воспроизведение древнеримских триумфов и на параллели “между
Францией нынешнего времени и Римом Траяна”. “Преторианский воздух, — иронически
замечает Тургенев, — на меня действует — не могу не говорить по-латыни”.
Соответственно, в текст он вписывает две собственные латинские фразы, после
одной из которых читаем следующее замечание: “Боюсь продолжать латинскую речь,
не знаю, поймете ли вы ее, ученый друг мой, ненавистник либерализма”.
Либерализм поставлен здесь в связь с латынью и Римом, и сама эта связь вызывает
“ненависть” — шутливую, но за пределами письма и не только шутливую — у людей,
думающих иначе, нежели автор, и вопреки ему. Ненависть к языку и обыкновениям
римлян равносильна ненависти к либерализму — тому самому либерализму, который
сквозил в приведенной выше декларации 1869 года и который для автора вообще
несовместим со словом “ненависть”.
Может
быть, еще более косвенное подтверждение связи между либерализмом и
антично-римской традицией в сознании — или, точнее, подсознании — Тургенева
сквозит в свидетельстве из “Дневника” Гонкуров за 1876 год. Говорит Тургенев:
““…я об этом раздумывал всю ночь. Да, вы люди латинской расы, в вас еще жив дух
римлян с их преклонением перед священным правом; словом, вы люди закона
<…> А мы не таковы <…> Как бы вам это объяснить? Представьте себе,
что у нас в России как бы стоят по кругу все старые русские, а позади них толпятся
молодые русские. Старики говорят свое “да” и “нет”, а те, что стоят позади,
соглашаются с ними. И вот перед этими “да” и “нет” закон бессилен, он просто не
существует; ибо у нас, русских, закон не кристаллизуется, как у вас <…>
Да, вы люди закона, люди чести, а мы, хотя у нас и самовластье, мы люди…”. Он
ищет нужное слово, и я подсказываю ему: — Более человечные! — Да, именно! —
подтверждает он. — Мы менее связаны условностями, мы люди более человечные!”20 .
Контраст
России и Запада выступает здесь как основополагающий и универсальный, но
рассматриваемый либерально. Он не имеет четкого ценностного смысла: строй
истории и культуры, основанный на законе и римском предании, представляет иной
тип цивилизации, нежели тот, что основан на человечности, но в общем контексте
приведенного разговора иерархии между ними не ощущается. Нелишне, может быть,
указать на еще одну ассоциацию — скорее всего, бессознательную — с римским
материалом, которая сквозит здесь в словах Тургенева. Уж очень точно совпадает
образ “молодых русских”, стоящих позади “старых русских” и повторяющих их
решения, с рассказом Тита Ливия (36, 22, 14 — 15), где центурия младших
выступила с определенным решением, но тут же изменила его, едва услышав о
противоположном решении, принятом центурией старших их же трибы.
И
тем не менее связь между тем, как Тургенев понял и утвердил свой либерализм, и
антично-римским каноном культуры в целом, культурно-исторически,
общеевропейски, en gros, не очевидна, не документируется и в этом смысле не
сохранилась. Но не сохранилась — не значит “была уничтожена”. Скорее речь
должна идти о чем-то ином: сохранилась, растворившись в более широком
контексте, переосмыслилась скорее, чем разрушилась, растворила старый опыт в
новых идеалах скорее, нежели разъединила их. Такая связь ощутима кое-где еще
перед Тургеневым, ощутима в общеевропейской атмосфере, его окружавшей и с ним
ретроспективно связанной, ощутима у некоторых думающих людей той же эпохи в
России и вне ее.
V
Отзвуки
и отблески подобной связи видны и слышны там, где в подсознании и мысли, в
надеждах и произведениях людей определенного типа между примерно серединой XIX
и первыми десятилетиями ХХ века воплотилась диалектика самостоятельности
свободного — liberalis — мышления, просвещенной цельности и культурно-национального
единства.
Страницы: 1, 2, 3
|
|