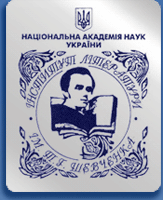Курсовая работа: Николай Федоров и Фридрих Ницше 
""Заратуштра"
- глубоко индивидуальное произведение, это история внутренней жизни автора
(...), - писал Федоров. - И над всем господствует и все освещает изображение
его наивысших надежд и конечной цели" (II, 123). И хотя сам автор говорил,
что основная мысль этого заветнейшего его произведения - идея о вечном
возвращении, на деле настоящую мыслительную оригинальность ему придает, конечно
же, та первая "благородная истина" (говоря словами Будды), с которой
спустился с гор пророк Заратустра: "Я учу вас о сверхчеловеке. Человек
есть нечто, что должно превзойти" - с характерным обращением к активности
самих людей: "Что сделали вы, чтобы превзойти его?" (2, 8).
"Сверхчеловек - смысл земли" (2, 8) - Ницше провозглашает
необходимость высшей цели, которая устремит эволюцию человека, причем эволюцию
активную, требующую усилий его самого ("созидать дальше себя" - 2,
25) к следующей ступени сверхчеловека.
Сверхчеловек,
должный явиться в будущем, и само это великолепное будущее вводится Ницше как
идеал, целевая причина настоящего. Философ устанавливает тот ценностный вектор
вперед, к будущему, любви не к ближнему, а к дальнему, что так утешительно как
клич и надежда ляжет на сердце целому поколению революционных романтиков и
социальных реформаторов, освободив их от долга и любви к прошлому и настоящему,
став замечательным алиби их нынешней жестокости, уродств и преступлений. (С
другой стороны, и Достоевский, и Федоров, и другие русские религиозные
мыслители, при всей их устремленности в другой зон бытия, в "будущий
век", опирались прежде всего на любовь к ушедшему, к прошлому, к ближнему,
из которой, по их мнению, только и могло произойти достойное будущее.)
В
"Так говорил Заратустра" звучало много поэтически возвышенной, часто
неистово-экстатической риторики, тогда еще совсем свежей и привлекательной, но
которая уже так скоро станет невыносимым, громким штампом.
Торжественно-дифирамбическая речь шла об устремленности только вперед, о росте
"не только вширь, но и ввысь (скоро Горький провозгласит девиз человеку: "вперед
и вверх"), об открытии "родников будущего и новых источников",
об "отважных и терпеливых" мореплавателях в будущее... Но Федоров уже
тогда, когда многие опьянялись этой риторикой, не цепляющей преобразовательной
конкретики, находил ее для себя, "человека, жаждущего дела",
вычурным, неопределенно-пустым многословием.
Действительно,
сказать с какой-либо очевидностью, в чем суть этой новой ступени человека, в
каких чертах провидится страстно чаемый сверхчеловек, не так легко -
"верхом на символах" в развевающихся поэтических одеждах несется он
на крыльях восторженного дифирамба. Это какое-то значительно более могучее,
цельное, свободное, чем нынешний человек, существо, вставшее по ту сторону
добра и зла и само для себя созидающее свои ценности, свое будущее, существо,
брызжущее избытком жизни, породнившееся с природой, великолепно-безжалостное,
"роковое и непреклонное", подталкивающее в пропасть слабых и жалких,
научившееся, наконец, любить самого себя "любовью цельной и здоровой"
(2, 138), освободившееся от обессиливающего сострадания, смеющееся в лицо
жизни, природы, других, танцующее... Да, танцующее, настаивает его пророк
Заратустра, ибо танец - начаток полета, начаток победы над ненавистным духом
тяжести. Рождается сверхчеловек в еще смутной пророческой мечте, в порывах
желаний и сверхкомпенсаций мыслителя, в исступленных всплесках дерзания, в
метафорической поэзии, в риторических вопросах... Является он как провозвестник
Царства земного, религии сверхчеловекобожия, занимая трон свергнутого и убитого
Бога. "Бог умер: теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек" (2, 207) -
бесконечно повторяется и варьируется эта заклинательно-вероучительная формула.
И
в последующих за Заратустрой вещах Ницше речь идет в самом общем смысле о
стремлении к "высшему человеку, к высшей обязанности, к высшей
ответственности, к творческому избытку мощи и власти" ("По ту сторону
добра и зла", 2, 337). Нечто более конкретное проглядывает, пожалуй, в
ницшевской апологии инстинкта, самого животно-природного свойства в человеке,
весьма потускневшего и почти атрофированного в его многовековой цивилизационной
обработке. Для Ницше инстинкт - самая чуткая, безошибочная, державная
способность, перед которой должны потесниться другие сущностные силы человека,
в том числе разум и особенно чувство. Явившись с лихим молотом громить все
религиозные и нравственные ценности, верхом на постулате, что всякая мораль
"противоестественна" (в чем он вполне прав: нравственность -
установление уже сверхприродное, направленное против безудержья инстинктов),
Ницше стоит за натурализм, т.е. "здоровую мораль", подчиняющуюся лишь
"инстинкту жизни", начисто изъявшую "ветхие" понятия
совести, ответственности, вины, наказания - и тут уже вступают в свои права и
"воля к власти", и безжалостность, и подавление слабого, и его устранение,
весь махровый букет хищного и "невинного" природного великолепия.
Федоров
был не просто особенно внимателен к "Так говорил Заратустра", он
должен был буквально вздрогнуть, узнав о таком сочинении. Не забудем, насколько
великой и дорогой была для русского мыслителя фигура реального древнеиранского
пророка Заратуштры, автора древнейшей части "Авесты", основателя
религии зароастризма, с его требованием активной борьбы со злом, утверждением
конечном победы добра, полного искупления мира, воскрешения умерших... А тут
явился некий псевдоЗаратустра и принес свое "антиевангелие".
Первое
и главное, что стало ясно Федорову: сверхчеловек на смерть не покушается, и все
его предполагаемые великолепные качества (ими он превозносится над остальными,
будто бы жалкими людишками, кого он брезгливо смахивает в труху и опилки бытия)
на деле никакого принципиально нового качества, новой бытийственной ступени ему
не дают. Но вместе с тем в федоровской логике то, что сверхчеловек не был
наделен Ницше привилегией бессмертия, как бы чуть уменьшает порочность этой
идеи, ибо в бессмертном сверхчеловеке, действительно, "небольшое
несходство с остальными превратится уже в громадное, бесконечное превосходство
не только над всеми живущими, но и над умершими" (II, 132) - это вырыло бы
такой же онтологически глубокий ров между бессмертным поколением сверхчеловеков
и бывшим до него человечеством, как между бессмертными олимпийскими богами и
простыми смертными, смердами.
Федорову
нравилось "величавое заглавие "По ту сторону добра и зла""
- туда же по ту сторону "нынешнего жалкого добра и очень большого
зла" всегда стремился человек - к "новому небу и новой земле, то есть
искоренению зла и водворению блага" (II, 143). Немецкий философ этот
переход за пределы добра и зла понимал иначе. Еще в "Происхождении
трагедии" Ницше рисует дионисический идеал как обожествление природы,
точнее природного способа бытия с его избытком, "фантастическим
переизбытком" сил, энергий, существ, жизней, взаимного вытеснения, где
крики боли переходят в вопль восторга, и наоборот, где торжествует целое,
жертвуя особью, - и вот для этого целого не существует ни добра, ни зла. Такое
природное, инстинктивное бытие всегда оставалось для Ницше неким высшим
эталоном истинной жизни, жизни "по ту сторону" моральных норм, якобы
корыстно сфабрикованных "жрецами", законодателями, философами,
творцами разного рода "фальшивых монет".
В
письме к В.А. Кожевникову от 18 декабря 1901 г., где Федоров впервые ставит
свои принципиальные вопросы поклонникам Ницше, противопоставляя основным идеям
немецкого философа собственное их решение, он писал так: "Потомок немецких
пасторов, он перенес безусловное обожание к Богу, - что совершенно понятно - на
слепую силу", обоготворил природу, ее закон порождения, борьбы, смерти, не
дерзая "даже коснуться страшного суеверия и предрассудка, в коем коснеют
философы", и даже благоговея "пред этим предрассудком - бессилием
разумных существ против слепой силы природы" (IV, 452). Интересно, что уже
рассмотренный нами набор главных качеств высшего человека, венчаемый
"избытком жизненности", "волей к власти", прямо соотносится
с тем, как видит Ницше природный способ бытия: "общий вид жизни есть не
нужда, не голод, а, напротив, богатство, изобилие, даже абсурдная
расточительность - где борются, там борются за власть" ("Сумерки
идолов", 2, 601);
"Сострадание
вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора. Оно
поддерживает то, что должно погибнуть..." ("Антихрист", 2, 636).
Недаром и сама его идея сверхчеловека, предельное дерзание духа творческого
становления, воспарив в проповеди Заратустры, постепенно угасает. Да, Ницше
остается верен типу высшего аристократического человека, моделируемого
импульсами и инстинктами, находимыми им в природном, естественном способе
жизненного самоосуществления, но этот же способ железно его сковывает
"фатальными" необходимостями: отсутствием цели, законом жертвы
индивидуальности целому... И тогда звучат поздние речи, в которых возможное
явление сверхчеловека начинает все больше пониматься пассивно, как
"единичные случаи", "счастливая случайность" "высшего
типа" ("Антихрист", 2, 634). В этих речах уже трудно узнать
творца Заратустры, но легко молодого автора "Происхождения трагедии".
"Что только и может быть нашим учением? -(...) Никто не ответствен за то,
что он вообще существует, что он обладает такими-то и такими-то качествами, что
он находится среди этих обстоятельств, в этой обстановке. (Вот она выдвинутая в
противовес христианской "первородной" вине онтологическая
"невинность" обезбоженного человека, которая будет подхвачена позднее
атеистическим экзистенциализмом. - С. С.). Фатальность его существа не может
быть высвобождена из фатальности всего того, что было и что будет. (...) Мы
изобрели понятие "цель": в реальности отсутствует цель..." ("Сумерки
идолов", 2, 584). На качелях фундаментального противоречия своего учения
Ницше то взмывает к цели, к волевому превозможению данного, к сверхчеловеку, то
опускается к приятию необходимости (ненавистного "духа тяжести"), к
дионисийско-трагическим "восторгам" переживания природного Рока, к
воспеванию жизни как она есть.
Для
христианского чувства и ума природный порядок бытия отмечен качествами
падшести, ущербности, несовершенства и нуждается в преображении. Ницше,
напротив, культивирует восхищение этим порядком: ""Мир совершенен"
- так говорит инстинкт духовно одаренных, инстинкт, утверждающий жизнь"
("Антихрист", 2, 685). В "Ессе homo" звучит нечто
противоположное пафосу Заратустры: ""Улучшить" человечество -
было бы последним, что я мог бы обещать" (2, 694). Можно продолжать
выискивать противоречия Ницше, можно понять, что качели-то одни, и взмывает
вверх и падает на них вниз один и тот же восторженный раб Природной силы,
одновременно вымещающий свое перед ней бессилие и утверждающий желание
сверхчеловеческого великолепия на других, на тех, над кем он превозносится,
кого он списал в большинство слабых и непригодных; но для чего все это? -
экстазы в перемалываемом все и всех природном жерле, как и вечное возвращение
обеспечены ведь каждому без исключения...
Идея
сверхчеловека, созидаемого на животно-природных путях селекции качеств, отбора
достойных, "истребления всего слабого для выработки нового типа" (II,
118), биологического и психического культивирования лишь особо витально удачных
экземпляров, "гениальных исключений", как выражался Федоров, - эта
идея несла на себе глубокие отпечатки пальцев своеобразного социал-дарвинизма.
Возвышение человека видится задачей аристократического общественного уклада с
его "пафосом дистанции", "длинной лестницей рангов"
("По ту сторону добра и зла", 2, 379), с узаконенным
"рабством" как необходимым подножием для этой лестницы, "Меняя
своих идолов, - точно заметил Федоров, - Ницше всегда оставался верен Дарвину,
хотя не сознавался в этом и даже считал Дарвина посредственностью" (II,
119). Заметим от себя, что педалированная Ницше замена дарвиновской
"борьбы за жизнь" на "волю к власти" по существу мало что
меняло.
Ничто
не было так отвратительно Федорову с его идеалом родственности, братотворения,
нравственного принципа "со всеми и для всех", как жесткое ницшевское
разделение рода людского, выбраковки "всех добродушных, хилых,
посредственных" (2, 290), "пигмеев", "стадных
животных"... как оппозиция аристократической "морали господ" и
злобно-утилитарной "морали рабов", как превознесение эгоизма, этого
"существенного свойства знатной души...". И здесь Федоров не
стеснялся выволочь на свет Божий глубокие личные выверты Ницше, таившиеся за
его жесткими и жестокими призывами, иронизировал над "тщеславным паном
Ницше", над его "смешным самопревозношением", этим
"пережитком старого лакейского аристократизма". Более того,
проницательно усматривал в построениях немецкого философа типологическое
сходство с ниспровергаемыми "идолами", их своеобразную у него
травестию: "Христианское учение о рае, и аде, о святых и грешниках,
высказанное в смысле угрозы и условно, он заменил делением на сверхчеловеков и
сволочь, пародиею на рай и ад" (II, 135).
Отмечая
вывернутую модельную зависимость идеологических построений Ницше от
христианской догмы, карикатурно огрубленного им пассивного христианства,
Федоров задевает самый движущий нерв его критики христианства. Отметим, что в
полемике с немецким мыслителем оттачивалась собственная позиция философа
"всеобщего дела", и самый глубокий и перспективный термин, обозначающий
это учение, - "активное христианство" он ввел как альтернативу
философии Ницше: "Ницшеанство, пассивно-бесчеловечное, повторяем, требует
как мирового целителя христианство активное и приводит, хотя и против воли, от
бесплодного мышления к спасительному делу, к подвигу любви и знания" (II,
146).
Как
известно, в основную свою заслугу Ницше ставил низвержение всех идолов религии
и морали, и прежде всего центрального - христианства. Само существование
христианского Бога для него угроза человеку, такому, каким он хотел бы его
видеть, и прокламированная в "Так говорил Заратустра". "Смерть
Бога" становится освобождением человека, обретающего бытийственную
невинность и неограниченную свободу (произвол, по слову Федорова). Под
христианство Ницше подбирался постепенно, сначала полностью умалчивая о нем,
как в "Происхождении трагедии" (чем он позднее так гордился), затем
сохраняя некоторые реверансы, но с последующими резкими уколами. Но уже с
"Человеческого, слишком человеческого" (1878) разворачивается
объявленная, беспощадная война с христианством, вплоть до отождествления себя с
Антихристом.
В
христианстве Ницше усматривает угашение воли и вкуса к жизни, к жизни земной,
"самую острую форму вражды к реальности" ("Антихрист", 2,
653), злобную зависть (ressentiment) всего бедного, слабого, жалкого,
нежизнеспособного к богатому и знатному, сильному, брызжущему избытком жизни,
усматривает попытку обессилить все сильное и великолепное путами аскетической,
жизнеотрицающей морали, терроризировать его ужасом потустороннего вечного
наказания. Для Ницше в появлении христианства и буддизма, которые он
удивительным образом сближает (причем явно отдавая предпочтение буддизму),
выразилось "чудовищное заболевание воли" ("Веселая наука",
1, 670). Столь же странно чувствует он в христианстве "стремление к ничто,
к концу, к успокоению, к "субботе суббот"", одним словом,
"заговор" "против самой жизни" ("Антихрист", 2,
692) в ее, можно сказать, космическом смысле.
Но интересно, что Федоров, заметивший, что Ницше, желая
"убить христианство, (...) против воли убивает только буддизм" (II,
118), т.е. признав его критику христианства неадекватной предмету
(действительно, все его уличения христианства в мироотрицании, в нигилизме, в
стремлении к ничто... соответствуют скорее некоторым восточным, прежде всего
буддийским метафизическим установкам, - христианство же, напротив, чает полноты
преображенной личностной жизни, раскрытия полноты потенций Жизни в творении),
писал: "Когда же Ницше объявляет себя антихристом или ожидает пришествия
антихриста, то даже и в этом антихристе не все оказывается
антихристианским" (II, 134).
Федоров был относительно солидарен с Ницше в его критике
самодовлеющего аскетического идеала, но главное не мог не чувствовать,
насколько желчно, ядовито и по-своему точно бьет немецкий философ в центральный
для Федорова ущерб катехизической буквы: невсеобщность спасения, буквальное
понимание ада и адских мук, "субботствующее" представление Царствия
Небесного как вечного покоя и созерцания, хорошо еще если Бога и Его Славы, а
то, как ехидно заметил тот же Ницше, вечных терзаний в аду отвергнутых
братьев... С удовольствием вытаскивал Ницше некоторых знаменитых учителей
Церкви, чтобы доказать, что в христианстве на деле торжествует не любовь, а
злоба, дух мстительности, распространенные на вечность, в масштаб вселенский.
Чем вознаграждаются лишавшие себя земной радости праведники, обретя, наконец,
свой главный выигрыш: жизнь вечную? - и тут Ницше пространно цитирует
Тертуллиана, который живописует мрачно-злорадные картины жарящихся на свирепом
огне язычников, "гонителей христиан, безбожных философов, трагиков,
скоморохов...", побуждая верующих уже сейчас представлять себе это в
утешение и услаждение, а уж какие развлечения обещает этот адский
"цирк" праведникам в вечности: "Думаю, это приятнее того, что
можно лицезреть в цирке, в двух амфитеатрах и на всем ристалище" (Цит. по:
"К генеалогии морали", 2, 787). Не упускает Ницше вспомнить и Фому
Аквинского с такой же дикой выкладкой: "Блаженные в Царствии Небесном узрят
наказание осужденных, дабы блаженство их более услаждало их" (Там же, 2,
787) и вполне фашистско-концентрационную (глядя из нашего времени) надпись над
вратами Ада у Данте: "И меня сотворила вечная любовь", - тогда,
добавляет немецкий мыслитель, "над вратами христианского Рая с его
"вечным блаженством" могла бы, во всяком случае с большим правом,
стоять надпись: "и меня сотворила вечная ненависть "" (Там же,
2, 434). В этом пункте Ницше неистощим: "Нельзя позволять вводить себя в
заблуждение: "не судите!" -говорят они, но сами посылают в ад все,
что стоит у них на пути" ("Антихрист", 2, 669). Но именно этот
нравственный ущерб "педагогически" угрожающего, как бы
"несовершеннолетнего" еще христианства аукается - как заметил Федоров
- у того же Ницше: "Картина смеющегося и пляшущего сверхчеловека,
проносящегося над всем, что есть горе и страдание, картина зловеще-эффектная,
но она - украденная: вспомним хохот Тертуллиана при изображении Суда, гибели
мира и адских мук!.." (II, 147).
Страницы: 1, 2, 3
|
|