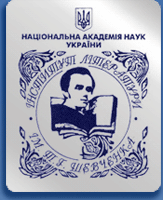Курсовая работа: Историософия и публицистика Тютчева 
Отмеченные
достоинства сочинения французского "путешественника" совсем не
перевешивали его многочисленных изъянов, обусловленных субъективными свойствами
личности и методологией автора, которую Тютчев сравнивал с водевилем. Не зная
русского языка, истории, литературы и культуры, маркиз наспех проезжал большие
расстояния, избегал разговоров с представителями разных сословий, неточно
излагал те или иные факты, но при этом проецировал узкий круг ограниченных
сведений и впечатлений на огромный масштаб всей страны, отождествлял
"фасадность" придворного окружения с сущностью всей нации, превращал
повторяющиеся скороспелые суждения в глобальные категорические и метафорические
обобщения. По мнению автора, Россия - это "пустыня без покоя и тюрьма без
досуга", "государство, где нет никакого места счастью", она
"возникла лишь вчера, и история ее богата одними посулами", а
"единственное достоинство русских - покорность и подражание", они -
"скопище тел без душ". Более того, "русская цивилизация еще так
близка к своему истоку, что походит на варварство. Россия - не более чем
сообщество завоевателей, сила ее не в мышлении, а в умении сражаться, то есть в
хитрости и жестокости" (Кюстин Астомар де. Россия в 1839 году. М., 2000.
Т. 2. С. 439).
Именно
"водевильная", усеченно-памфлетная методология, выделяющая из
многоликой и противоречивой социально-исторической реальности
"живописные" факты, отрывающая их от целостного контекста,
направляющая на них яркий луч света и выдающая их за полноту картины и истины
(методология, свойственная разного рода "художникам", риторам,
ораторам, идеологам, пропагандистам), становилась ясной более глубоким
читателям. П.А. Вяземский, как и Тютчев, подчеркивал, что маркиз употребил свой
ум и талант для сочинения толстенного с "оттенком партийности" четырехтомного
"романа", наполненного грезами, намеками, "белой и черной
магией", смесью ложного пафоса и морализаторства, скандальности и
философских обобщений, религии и политики, исторических фактов и сплетен.
Такому
романически-магическому подходу Тютчев противопоставляет Историю, которая, по
его убеждению, является истинным защитником России и которую быстро забывают
агрессивно настроенные по отношению к ней немецкие либералы. Двадцать два года
спустя после публикации "России и Германии" поэт, говоря о наблюдавшихся
им тогда идеологических тенденциях, подчеркивал: "Они, в продолжение
тридцати лет, разжигали в себе это чувство враждебности к России, и чем наша
политика в отношении к ним была нелепо-великодушнее, тем их не менее нелепая
ненависть к нам становилась раздражительнее" (Литературное наследство. М.,
1988. Т. 97. Кн. 1. С. 400).
Тютчев
напоминает о "Союзе святом", который Россия заключила с Германией для
освобождения последней от наполеоновского владычества и который приветствовало
немецкое "великое поколение 1813 года". В дальнейшем "Союз
святой", развившийся в Священный союз, предполагал тесное взаимодействие и
солидарность в деле сохранения сложившихся государственных установлений и
борьбы против революционных тенденций, а его участники взаимно обязались всегда
"подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь", как
"братья и соотечественники". В своем политическом завещании
Фридрих-Вильгельм III писал сыну, сменившему его в 1840 г.: "Прилагай все
возможные усилия для поддержания согласия между европейскими державами и прежде
всего для того, чтобы Пруссия, Россия и Австрия никогда не разлучались друг с
другом" (Цит. по: Simon Ed. L. Allemane et la Russie au XIX siecle. P.,
1893. P. 79). В феврале 1854 г. Тютчев вспомнил "завещание этого бедного
короля Фридриха-Вильгельма III" в письме к К. Пфеффелю: "Увы! Что бы
сказал он там наверху, глядя на происходящее здесь внизу, и как мало опыт отцов
служит детям" (Revue de Deux Mondes. 1854. Т. 6. С. 886).
Тютчев
сожалел, что "внизу" декларированные в рамках Священного союза
принципы христианской и легитимистской политики были далеки от необходимого
воплощения, а "дети", представляющие либеральные, демократические и
революционные течения немецкой общественной жизни, считали Россию
"жандармом Европы" и противником национального единства Германии.
С
точки зрения поэта, подобное восприятие походило "на первые впечатления,
произведенные на современников открытиями Колумба". По его наблюдениям,
именно таким непонятным, неведомым, неожиданным миром воспринималась Россия на
Западе, отказывавшемся признавать за ним подлинную новизну духовного,
исторического и культурного содержания и видевшего в нем лишь разраставшуюся
материальную силу и угрозу для собственного существования. Однако так
называемые завоевания, пишет автор "России и Германии", "явились
самым естественным и законным делом", "просто состоялось необъятное
воссоединение" славян и тяготевших к России народов. Напротив, во времена
своего могущества Запад "затрагивал границы сего безымянного мира, вырвал
у него несколько клочков и с грехом пополам присвоил их себе, исказив их
естественные национальные черты". Речь идет о славянских народностях,
которые в ходе истории оказывались завоеванными ведущими европейскими
государствами и испытывали постоянную угрозу утратить национальную
идентичность. Тютчев рассматривает "Новый свет" Восточной Европы как
огромное и целостное единство, "прочно взаимосвязанное в своих частях.
живущее своей собственной органической, самобытной жизнью", принципиальной
опорой и ценностью которого является православная вера. В его представлении
Восточная Европа может стать "подлинной державой Востока" во главе с
Россией, способной объединить славянские народы, сохраняющей православную веру
и наследие Византийской империи. По логике поэта, подлинность и сила такой
державы должны основываться на ясном осознании и практическом воплощении
"менее искаженных" (в сравнении с католичеством и протестантизмом)
начал христианства в православии, в отказе от языческих принципов, ослаблявших
и приводивших к гибели предшествующие основные империи (Ассирия, Персия,
Македония, Рим), упоминающиеся в незавершенном трактате "Россия и
Запад". В этом случае утверждается "торжество права исторической
законности над революционным способом действия", поскольку сохраняется традиция
берущей начало от Бога и потому единственно законной Вселенской Божественной
Монархии, которая разрушается в самочинном общественном новаторстве и уступает
место разнообразным, скрытым или явным, проявлениям "самовластия
человеческого я", на чем Тютчев подробнее остановится в следующей статье
"Россия и Революция". В его понимании Россия в XIX в. практически
оставалась единственной страной, которая пыталась сохранить высшую божественную
легитимность верховной власти в самодержавии, опирающемся на православную веру.
С
точки зрения Тютчева, такая Россия сохраняет "верность при всяком
испытании сложившимся союзам и принятым обязательствам", способна помочь
Германии преодолеть терзавшие ее в прошлом раздоры и разделения и успешно
противодействовать извечной сопернице, а ныне революционизированной Франции.
<
"Записка" > Николаю I составлена Тютчевым в первой половине 1845
г. и выражает его стремление влиять на политику правительственных кругов. Свою
деятельность на любом поприще он воспринимал как служение национальным
интересам России, которые в 40-х гг. осознавал в контексте тысячелетней
истории, что и отражено в данном документе. Именно отсутствие такого сознания
нередко удручало Тютчева, размышлявшего позднее о правительственном кретинизме,
т.е. неспособности "различать наше я от нашего не я", о политике
"личного тщеславия", подчиняющей себе национальные интересы страны, о
"жалком воспитании" правящих классов, увлекшихся "ложным
направлением" подражания Западу: "и именно потому, что возвращение на
истинный путь будет сопряжено с долгими и жестокими испытаниями" (Старина
и Новизна. Пг., 1915. Кн. 19. С. 236). Этот вывод из письма к жене от 17
сентября 1855 г. перекликается с оценкой сложившегося положения вещей в письме
к М.П. Погодину от 11 октября того же года: "Теперь, если мы взглянем на
себя, т.е. на Россию, что мы видим?… Сознание своего единственного
исторического значения ею совершенно утрачено, по крайней мере в так называемой
образованной, правительственной России" (Литературное наследство. М., 1988.
Т. 97. Кн. 1. С. 422). И в 60-х гг. поэт не устает повторять: "В
правительственных сферах, вопреки осязательной необходимости, все еще
упорствуют влияния, отчаянно отрицающие Россию, и для которых она вместе - и
соблазн, и безумие…" (Там же. С. 276). Более того, он обнаруживает, что
"наш высоко образованный политический кретинизм, даже с некоторою примесью
внутренней измены", может окончательно завладеть страной и что
"клика, находящаяся сейчас у власти, проявляет деятельность положительно
антидинастическую. Если она продержится, то приведет господствующую власть к
тому, что она <…> приобретет антирусский характер" (Там же. С. 330).
Тогда России грозит опасность погибнуть от бессознательности подобно человеку,
который утратил чувство самосознания и держится на чужой привязи:
"государство бессознательное гибнет…" (Там же. С. 372). Примечателен
рассказ Тютчева в письме И.С. Аксакову от 29 сентября 1868 г. о разговоре как
раз Николая I с графом П.Д. Киселевым: "…беседуя с ним о каком-то политическом
вопросе, покойный государь сказал ему: "Я бы мог подкрепить мои доводы
примерами из истории, но в том-то и беда, что истории-то меня учили на медные
гроши. - Слово это и теперь применимо ко всем почти правительствующим, - и
потому следовало бы, чтобы печать, без желчи, без иронии, в самых ласковых и
мягких выражениях сказал бы им: "Все вы люди прекрасные, благонамеренные,
даже хорошие патриоты, но всех вас плохо, очень плохо учили истории, и потому
нет ни одного вопроса, который бы <вы> постигали в его историческом
значении, с его исторически-непреложным характером. И затем следовало бы
сделать перечень <таких вопросов>, короткий, но осязательный, указывая на
их глубокие, глубоко скрытые в исторической почве корни" (Там же. С. 343).
Составленная Тютчевым двадцатью тремя годами ранее записка для Николая I и как
бы стала коротким перечнем корневых вопросов, а также своеобразной попыткой
оказать влияние на степень сознательности государства и на преодоление
"двойного неведения" (европейского и отечественного) относительно
принципов собственного исторического бытия.
Поэт
отмечает, что превратное представление о России на Западе как об исключительно
материальной силе обусловлено не только принципиальным различием в самих
духовных и общественных основаниях, но и отсутствием необходимых знаний об этом
различии и его повсеместных и повседневных проявлениях в многообразной жизни.
Он пишет о западном прозелитизме, считающем недостойным существование всякое
общество, не устроенное по европейскому образцу, и о западной науке, отягощенной
политическими, идеологическими, психологическими штампами и судящей о России,
славянском мире и их исторических корнях наподобие "господина де
Кюстина". Подобная позиция в прошлом предопределяла крестовые походы
против "неверных", а также последующие завоевательные планы и войны
Запада. С другой стороны, социальные и культурные достижения греко-римского и
романо-германского мира отождествлялись с общечеловеческой цивилизацией и
историческим прогрессом, что как бы принуждало разные народы повторять чужую
жизнь, насильственно переносить на свою почву результаты естественного развития
европейских стран. Между тем "православный Восток, весь этот огромный мир,
возвышенный греческим крестом, един в своем основополагающем начале и тесно
связан во всех своих частях", живет своей собственной самобытной жизнью.
Поэт вновь повторяет мысль о православно-славянском своеобразии России и
Восточной Европы, высказанную им в статье "Россия и Германия", о
восточном христианстве как одухотворяющем начале сокровенной жизни общества и
государства. Своими впечатлениями об органическом единстве
"верослужения" и "жизни" он делится в одном из писем 1843
г. к жене, после посещения часовни с чудотворной иконой Иверской Божьей Матери:
"Одним словом, все произошло согласно с порядками самого взыскательного
православия… Ну что же? Для человека, который приобщается к ним только
мимоходом и в меру своего удобства, есть в этих формах, так глубоко
исторических, в этом мире Византийско-русском, где жизнь и верослужение одно, -
в этом мире столь древнем, что даже Рим, в сравнении с ним, пахнет новизною,
есть во всем этом для человека, снабженного чутьем для подобных явлений,
величие поэзии необычайное, такое величие, что оно преодолевает самую яркую
враждебность… Ибо к ощущению прошлого, - и такого уже старого прошлого, -
присоединяется невольно, как бы предопределением судьбы, предчувствие
неизмеримого будущего…" (Цит. по: Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича
Тютчева. М., 1886. С. 21).
В
<"Записке"> Тютчев подчеркивает, что Восточная Церковь является
законной наследницей Вселенской Церкви, сохраняет традиции "лучшего"
и "неискаженного" христианства, составляющего душу и "жизненный
принцип" Восточной Империи. Россия же приняла эстафету этой Империи от
Византийской и должна осознать себя в качестве таковой: "Вот Империя,
беспримерным в мировой истории стечением обстоятельств оказывающаяся
единственной выразительницей двух необъятных явлений: судеб целого племени и
лучшей, самой неповрежденной и здоровой половины Христианской Церкви. И находятся
еще люди, всерьез задающиеся вопросом, каковы права этой Империи, каково ее
законное место в мире. <…> Вот в чем - для умеющих видеть - заключаются
все спорные вопросы между нами и западной пропагандой; здесь самая сущность
наших разногласий. Все, что не затрагивает этой сущности, все, что в полемике
иностранной прессы не связано более или менее непосредственно, как следствие со
своей причиной, с этим великим вопросом, не заслуживает ни на мгновение нашего
внимания". Поэт полагает, что, осознавая "огромное значение наших
судеб", необходимо искать союзников среди западных умов и печатных
органов, способных воспринять и разделить такое понимание и противопоставить
его антируской пропаганде и революционным тенденциям в Европе.
Статья
"Россия и Революция" была задумана вскоре после февральской революции
1848 г. во Франции. 18/30 мая 1848 г. жена Тютчева Эрнестина Федоровна извещала
своего брата К. Пфеффеля: "Дорогой друг, посылаю вам копию записки,
которую мой муж продиктовал мне шесть недель тому назад <…> Государь
читал и весьма одобрил ее; он даже высказал пожелание, чтобы она была
напечатана за границей. Однако, помимо того, что было бы трудно (если не
сказать невозможно) рассчитывать на появление подобной статьи в
"Allgemeine Zeitung", момент для ее обнародования, повторяю, упущен.
Надеюсь, что мой муж напишет другую статью, и тогда мы попросим вас
содействовать ее переводу и публикации в Германии…" (Литературное
наследство. М., 1988. Т. 97. Кн. 1. С. 225). Одна из копий "записки"
оказалась в руках бывшего французского посланника в Мюнхене Поля де Бургуэна, с
которым поэт был лично знаком и который опубликовал ее с комплиментарными
оценками и полемическими комментариями в Париже в мае 1849 г. в составе
собственной брошюры "Memoire politique. Politique et mоyens d'action de la
Russie" ("Политическая записка. Политика и способы действия
России"). Он издал "записку" в количестве двенадцати
экземпляров, переданных президенту Франции Луи Наполеону Бонапарту, видному
политическому деятелю Франции Матье де Моле, члену Законодательного собрания и
главе монархической оппозиции Адольфу Тьеру и другим высокопоставленным лицам.
При этом имя автора "записки" не указывалось, оригинальный текст был
сокращен и опубликован под придуманным заглавием "Memoire presente a
l'Empereur Nicolas depuis la Revolution de fevrier par un Russe, employe
superieur des affaires etrangeres" ("Записка, представленная
императору Николаю после Февральской революции одним русским чиновником высшего
ранга Министерства иностранных дел"). П. де Бургуэн безосновательно
утверждал, что публикуемое произведение "если и не санкционировано, то по
крайней мере секретно разрешено русским правительством" и называл его
автора "смелым и дерзким антагонистом" Февральской революции.
Реакцией
на публикацию "записки" П. де Бургуэном стало выступление на
страницах журнала "Revue des Deux Mondes" французского публициста Э.
Форкада, который также ошибочно оценивал ее как почти официальный документ,
ловко запущенный в дипломатические круги и с мистической стороны освещающий
скрытую политику царя. Он увидел в ней "самый манифест московского
панславизма и его форму, если не точную и ясную, то по крайней мере узнаваемо
очерченную", и подчеркнул, что французские либералы не понимают той
угрозы, которая исходит для Европы от поддержки русским императором
"славянских братьев и единоверцев" на Западе (Revue des Deux Mondes.
1849. 2/14 juin. P. 1053). Подобные высказывания распространялись во
французской и немецкой прессе, а рецензенты и комментаторы, несмотря на различное
восприятие и выделение в статье Тютчева разных аспектов, скорее акцентировали
политические, нежели подчеркнутые в ней историософские вопросы. В результате в
стороне оставалось последовательное рассмотрение фундаментальной связи того или
иного типа христианства (православия и католичества), обуславливающего коренные
представления человека о самом себе и своих основополагающих ценностях, с
принципиальными метаморфозами истории и неодинаковым пониманием
государственных, общественных, идеологических устремлений и проблем.
В
России "записка" поэта ходила в списках и широко обсуждалась в
петербургском и московском обществе, о чем упоминали многие известные
современники (П.Я. Чаадаев, С.П. Шевырев, М.П. Погодин, Н.В. Сушков, О.М.
Бодянский, А.С. Хомяков и др.), и более адекватно воспринималась в ее
христианских и историософских основаниях. Автор заключал, что "уже давно в
Европе существуют только две реальные силы: Революция и Россия".
Знаменательно, что представление о России и Революции как о двух главных противоборствующих
силах было свойственно и классикам марксизма, хотя у них, конечно, оно получало
прямо противоположные оценки и истолкования. Так, Ф. Энгельс подчеркивал:
"на европейском континенте существуют фактически только две силы: с одной
стороны, Россия и абсолютизм, с другой - революция и демократия" (Маркс К.
и Энгельс Ф. Соч. М., 1957. Т. 9. С. 11). По его твердому убеждению, ни одна
революция не только в Европе, но и во всем мире не может одержать окончательной
победы, пока существует теперешнее русское государство - по-настоящему ее
единственный страшный враг. В отличие от Ф. Энгельса, Тютчев рассматривал
революционные социально-политические явления не обособлено, а как проявления
фундаментальной метафизической тенденции бытия, в которой человек, подобно Адаму,
противопоставляется Творцу и ставит себя на его место. "Революция была
враждебна не только королям и установившемуся образцу правления, - передавал
тютчевское понимание Революции К. Пфеффель. - Тогда, как и теперь, она
покушается на самого Бога, а без Бога общество человеческое существовать не
может" (Литературное наследство. М., 1989. Т. 97. Кн. 2. С. 36). Революция
для поэта есть не только зримое историческое событие, но и - прежде всего -
Дух, Разум, Принцип, следствием которого оно (со всем многообразием своих
социалистических, демократических, республиканских и т.п. идей) является.
Корень Революции - удаление человека от Бога, ее главный результат -
"цивилизация Запада", "современная мысль", бесплодно
полагающая в своем непослушании Божественной Воле и антропоцентрической гордыне
гармонизировать общественные отношения в ограниченных рамках
"антихристианского рационализма". П.Я. Чаадаев, прочитавший
"записку" Тютчева еще в рукописи, был согласен с ее основным выводом.
"Как вы очень правильно заметили, - писал он автору, - борьба, в самом
деле идет лишь между революцией и Россией: лучше не возможно охарактеризовать
современный вопрос" (Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 339). Как
и Тютчев (но только в определенные моменты и с известными оговорками), П.Я.
Чаадаев полагал, что Россия как православная держава способна нести миру
"святую идею" христианства и тем самым предохранять его от языческого
распада в Революции.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
|