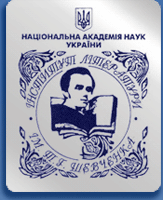Реферат: Последние книги "Тихого дона" и "Поднятой целины" в единстве исканий М. А. Шолохова 
Реферат: Последние книги "Тихого дона" и "Поднятой целины" в единстве исканий М. А. Шолохова
Последние книги "Тихого дона" и
"Поднятой целины" в единстве исканий М. А. Шолохова
В. Васильев
По
свидетельству П. К. Лугового, «первоначально план “Поднятой целины”
исчерпывался первой книгой», однако спустя некоторое время Шолохов «решил
продолжить работу» над произведением [1]. По всей видимости, писатель принял
такое решение едва ли не по завершении первой части романа и сразу же, не
«выходя из материала» и «не остывая», приступил ко второй. Известно признание
прозаика в его автобиографии, составленной для журнала «Прожектор» 14 ноября
1932 года: «Сейчас закончил третью (предпоследнюю) книгу “Тихого Дона” и,
вчерне, вторую (последнюю), - “Поднятой целины”» [2]. Это признание
подкрепляется и объявлением в ростовском ежемесячнике «На подъеме» о
предстоящей в 1933 г. публикации «Поднятой целины». Однако она не была
подготовлена к печати. Намереваясь весною 1933-го посетить США («Сильно
занимают меня вопросы с[сельского] х[озяйства]. Вот и хочу поехать, поглазеть и
ума-разума набраться...»), писатель сообщал А. Д. Солдатову 22 янв. 1933-го:
«...сейчас едва ли удастся. По рукам и ногам связала работа над книгами
(последняя “Тих[ого] Дона” и последняя “Подн[ятой] целины”), а также события
хлебозаготов[ительного] порядка. Просто жаль тратить на поездки такое
изумительное время» [3].
Исходя,
вероятно, из обещаний автора, «Новый мир» анонсировал публикацию второй книги
«Поднятой целины» сначала в 1934-м, затем во второй половине 1935-го, осенью
1935-го и, наконец, в 1936 году. 16 ноября 1935 Шолохов писал редактору
журнала: «Прости за то, что невольно подвожу тебя со сроками сдачи “Поднятой
целины”. Ей-богу, если и виноват, то все же заслуживаю снисхождения.
До
сих пор не разделался с “Тихим Доном”. Кончу его в конце года <...>. Ну,
а за “Под[нятую] цел[ину]” возьмусь тотчас же, чтобы к весне ее закончить и с
полным поклоном вручить в Ваши редакторские ручки» [4]. Накануне 1936-го
ярославские шинники, инициаторы Всесоюзного соревнования на предприятиях
резиновой промышленности, пригласили Шолохова в гости, на свой новогодний
праздник, и попросили у него отрывок из «Поднятой целины» для их заводской
газеты. Ссылаясь на занятость, Шолохов в ответном письме ярославцам от 27 дек.
1935 г. писал: «Отрывок из “Поднятой целины” <...> не могу прислать. Нет
ничего готового» [5].
В
1937 г. вторая книга романа не анонсировалась отечественной прессой; в 1938 в
одном из журналов русского казачьего зарубежья промелькнула заметка, подписанная
П. Головчанским: «Вторая часть “Поднятой целины” готовилась к печати, ныне
<...> она возвращена автору для переделки» [6]; год спустя Шолохов
высказал намерение в 1939 г. «закончить последнюю книгу «Поднятой целины» [7].
Через два с лишним месяца, выступая на XVIII съезде партии, писатель заявил: «С
чувством робости вступил я на эту трибуну. С робостью потому, что стоит за
моими плечами невеселая слава автора многотомных и, к моему сожалению,
неоконченных романов» [8].
По
завершении в дек. 1939 г. четвертой книги «Тихого Дона», в 1940 г. и первой
половине 1941 г., Шолохов целиком сосредоточился на «Поднятой целине», работу
над которой прервала Великая Отечественная война [9].
Летом
1942 г. гитлеровские войска прорвали советский фронт в районе Харькова и взяли
направление на Кавказ и Сталинград; 8 июля ст. Вешенская пережила первый
бомбовый удар немецкой авиации и в течение пяти месяцев оставалась в зоне
активных боевых действий. Из полуразрушенного дома Шолохова, по свидетельству
очевидцев и участников тех событий на Дону, все же успели вывезти библиотеку
писателя, которая, вероятно, или «осела» в одном из населенных пунктов на пути
в Сталинград, или погибла в самом городе-герое во время ожесточенных боев,
сопровождавшихся всепожирающими пожарами. Архив же Шолохова, заблаговременно
переданный им на хранение районному отделу Наркомата внутренних дел, находился
в здании этого ведомства и, по утверждению писателя, «был брошен сотрудниками
<...> при поспешном бегстве из Вешенской» [10]. Судьба архива - в нем
наряду с рукописями «Тихого Дона» и других произведений, записными книжками,
фенологическими дневниками, письмами русских и зарубежных писателей и др.
ценными бумагами находился и черновой вариант второй книги «Поднятой целины» -
сложилась драматически: как проясняется со временем, он был частью спасен
нашими солдатами и офицерами и возвратился к хозяину или в государственные
хранилища после войны, частью погиб, частью растащен и пропал без вести; и
покуда нет твердой уверенности в том, что некоторые не известные нам до сих пор
материалы из него с годами не обнаружатся...
Схематично
изложенная история работы Шолохова над продолжением «Поднятой целины» не может
не навести читателя на вопросы, связанные с интенсивностью и продуктивностью
писательского труда, с непонятным, но последовательным оттягиванием сроков
окончания романа и его публикации, с неясностями относительно готовности
произведения к печати: то автор говорит о завершении произведения (хотя бы
«вчерне»), то оказывается, что книга еще пишется, то появляется анонс о ее
скором обнародовании, который через некоторое время дезавуируется художником,
то сообщается о сдаче рукописи в редакцию журнала и ее возврате автору «на
переделку», и т. п. Не зная всех жизненных обстоятельств и сложностей, какие сопутствовали
работе Шолохова над «Поднятой целиной», мы все же склонны с доверием, хотя и не
без осторожности отнестись к «зигзагам» признаний писателя и сообщений о них на
протяжении довольно длительного времени. Крайне скупой на откровения, автор
«Поднятой целины» никогда не обосновывал своих «долгов» перед читателем ссылкой
на трудности личного порядка или - тем более - на общественные обстоятельства,
считая такие объяснения слабостью характера, граничащего с безволием и
оправданием человеческого бессилия (в этом смысле главные герои его
произведений являются отчасти сколками его мужественной души: Григорий Мелехов,
Андрей Соколов). Но за каждым его новым обещанием, впоследствии оказавшимся
нереализованным, всегда стоит такая социально-нравственная и духовная коллизия,
какая по обыкновению характеризуется поговоркой «человек предполагает, а Бог
располагает». Мы должны с пониманием отнестись к вынужденным шолоховским
интервью тех лет, памятуя о том, что содержащаяся в них протокольно-сухая
информация была одним из способов самозащиты писателя от тогдашних назойливых и
беспрекословных требований «жизни» (куда, к примеру, надо было привести
Григория Мелехова).
Вторая
книга «Поднятой целины» создавалась одновременно с четвертой «Тихого Дона».
Преодолевая психологический барьер, связанный с художнической необходимостью
постоянного перехода из одной эпохи (1920-22) в другую (нач. 30-х), Шолохов
тяжело работал над обеими книгами. Полосы творческого подъема в его духовном
самочувствии нередко сменялись периодами упадка и разъедающих душу сомнений;
еще вчера казавшаяся предельно ясной перспектива развития обоих произведений
сегодня превращалась в напряженный поиск иного повествовательного пути - и
ранее наработанное подвергалось вымарыванию и переделкам. Едва, к примеру, не
законченная весной 1934 г. последняя книга «Тихого Дона» при ее холодном
перечитывании породила в авторе такое глубокое разочарование, что он решил
вернуться на «исходные позиции» и начать все заново. «Хотел вместе с письмом
послать Вам одну главу из 4-й книги “Тихого Дона”, - доверительно писал Шолохов
Е. Г. Левицкой в апр. 1934-го. - Закончил эту главу, и захотелось послать ее
Вам, т. к. Вы любите “Тихий Дон” и роднее Вас читателя у меня нет, а главу эту
писал я долго, и вышла она у меня так, что после того, как прочитал, - у самого
в горле задрожало. Но потом постиг меня жесточайший припадок самокритики.
Переделываю сейчас все ранее написанное (4-я кн.), в том числе и эту главу. Она
почти завершающая, и надо сделать ее еще сильнее. <...> Мало пишу по ряду
всяких причин и - в связи с этим чувствую себя убийственно плохо. Работать
хочется очень, а не удается. <...> В этом году хочу непременно закончить
“Тихий Дон”. И все боюсь, что не закончу или плохо напишу, не так, как надо бы»
[11].
Это
письмо, ставшее известным во второй пол. 80-х, отчасти проливает свет на
утверждения и обещания писателя в его интервью «Комсомольской правде» в июне
1934-го, в котором сообщалось, что оба романа «почти закончены» и автор намерен
представить издателям четвертую книгу «Тихого Дона» в ноябре или в начале
декабря [12]. Однако и в марте следующего года Шолохов, неудовлетворенный
сделанным, все еще продолжал работать над «Тихим Доном»: «все не так
получается, как хотелось бы...» [13].
Трудности,
испытываемые Шолоховым в сер. 30-х гг., характерны не только для автора «Тихого
Дона» и «Поднятой целины». Русская литература этой поры переживала острый, но
благодетельный духовный кризис: она пересматривала весь свой багаж, накопленный
ею в 20-е и нач. 30-х гг., и вырабатывала новое отношение к жизни и человеку.
Это был период трезвения художественной мысли до ее нового реализма,
освобождения литературы от праздных и абстрактных представлений о человеке и
вульгарно-социологических схем и концепций исторического развития жизни до их
объективных национальных духовных основ. Из здорового чувства самосохранения
литература освобождалась от воззрений, ведущих ко «вселенской смази» -
денационализации истории и обезличивания жизни, от тех взглядов, согласно
которым, по М. Покровскому, «пребывание на верхушке государственного здания
<...> различных персонажей ничем не отражается на том, что внутри этого
здания делается» [14]. Она воспротивилась силе и энергии, с какими новая Россия
изымалась из ее векового исторического «контекста» и эмансипировалась в некое
массовидное серое безликое существо, изъясняющееся на примитивном эсперанто и
на плоском языке газетного журнализма. Она преодолевала грех российской
интеллигенции, со времен Петра выражавшийся в ее фанатизме и сектантстве, в ее
модернизме и левизне, в ее отрицательном пафосе, порождающем распад и
самоуправство, в ее разлагающем аналитическом уме, склонном к доведению
противоречий до абсурда и не способном к синтезу и снятию жизненных антиномий,
в ее, наконец, всегдашней подозрительности к власти и государству и
декларативной любви к судьбе «маленького человека». Вторая половина 30-х годов
есть эпоха крушения либеральной интеллигенции, из недр которой вышли
революционные деятели Февраля и Октября, и ее гуманизма, проявляемого в
словесной борьбе за свободу масс против организованного в государство народа, в
борьбе личного своеволия и свободы на особицу со здоровым народным инстинктом к
согласию, объединению и историческому творчеству.
Жестокость,
с какою велась Гражданская война, окончательно развенчала либеральный миф о
«маленьком человеке», первым брошенном в ее пекло обеими сторонами. Но
Гражданская же война, окончившаяся поражением белого движения и победой
«красной идеи», засвидетельствовала и духовный крах контрреволюционных сил. И исход
борьбы решил не «православный белый генерал» (православный не в жизни, а в
интеллигентском сознании: «Божье да белое твое дело: / Белое тело твое - в
песок. / Не лебедей это в небе стая: / Белогвардейская рать святая...» и т. п.)
и не красный атеист прапорщик, а именно обыкновенный человек, о котором ни тот,
ни другой - в разной, правда, степени - не имели реального понятия. Давно
определившиеся в своих социально-нравственных пристрастиях и идеалах, они с
непримиримостью, доведенной до автоматизма и ритуала, истребляли друг друга,
истощаясь и нравственно мельчая, в то время как «маленький человек», взыскуя
правды меж враждующими лагерями, работал с неослабевающей духовной
напряженностью и набирал силу. И в этом смысле правдоискательство Григория
Мелехова, персонифицирующего собою реальные сдвиги в традиционной духовной
ориентации народа, имеет принципиальное и абсолютное значение подлинного
исторического процесса, какого лишены вышедшие из одного книжного
интеллигентского источника и превратившиеся в догму отвлеченные «искания»
Деникина или Троцкого.
Замечательно,
что Шолохов, интуицией большого художника, представил «блукания» Григория
Мелехова как центральное в романе, отодвинув на периферию, во второй и третий
эшелоны, «искания» многих выдающихся исторических лиц, реально влиявших на
судьбу России, и тем самым, вопреки традиционной отечественной историографии,
показал период 1912-22 годов как анонимную эпоху в русской истории. Такой
взгляд писателя на целое десятилетие российской жизни, остающейся без призора,
можно было бы отнести к простой иллюстрации марксистского тезиса о роли
народных масс в историческом процессе, если бы он не отражал обезличенной
реальности тех лет: сонм оригинальных вождей и людей, выдвинутых революцией на
авансцену действительности, - Керенский, Корнилов, Каледин, Алексеев, Деникин,
Краснов, Кутепов, Родзянко, Родичев, Троцкий, Махно, Сиверс, Буденный,
Брусилов, Подтелков и т. д. (по «Тихому Дону») - и ни одной мощной личности,
воплощающей и аккумулирующей устремления и надежды широких народных масс и
соответствующей во взглядах той искомой правде жизни, «под крылом которой мог
бы посогреться всякий». Жизнь будто исчерпала духовный ресурс, расползлась и
истончилась под бременем свободы, утратила историческую волю к органическому оформлению
самой себя и творчеству, распалась на отдельные рукава и начала глохнуть,
дичать и вырождаться. Метания Григория Мелехова в поисках правды, носящей
вполне предметные - к кому бы прислониться? - очертания, обернулись новой -
невидимой обеими «сторонами» - дорогой...
По
классическому «сценарию» общества национально оформляются в эпохи
буржуазно-демократических революций. Февраль 1917 года в России явился в этом
смысле ярким пустоцветом, растерявшим свои привлекательные чудесные лепестки
при первом же незначительном полевении жизни, и в завязи обронил свой
недоношенный, уродливый и легкий плод, откатившийся далеко от породившей его
яблони. Октябрьская революция еще круче забрала влево от реально-национального
и на долгие годы, до середины 30-х, лишила ее подлинного национального
содержания и духовного развития. Пик левизны, безусловно, приходится на рубеж
20-30-х, когда революция, не случайно названная второй, из сферы словесности
перешла к делу и занялась непосредственным выкорчевыванием материальных остатков
национальной культуры и ее носителей. А. Платонов сравнил начало
индустриализации и «год великого перелома» с молнией, ослепившей старого
машиниста паровоза «ИС» («Иосиф Сталин») курьерского поезда, ведшего состав с
необыкновенным воодушевлением и вместе с доведенным до автоматизма
профессиональным мастерством. За долгие годы привыкший на своем маршруте видеть
окружающий его ландшафт жизни одним и тем же, старый машинист и после того, как
ослеп, «долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность». И
следователь, разбирая дело машиниста, совершенно резонно рассуждает: «Взрослый
сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную
гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что
он был слеп. Что это такое? <...> Мне... нужно установить факты, а не...
воображение или мнительность. Воображение - было оно или нет - я проверить не
могу, оно было лишь... в голове; это... слова, а крушение, которое чуть-чуть не
произошло, - это действие» [15]. Старого машиниста, как известно, сажают в
тюрьму, а его место на паровозе занимает его молодой помощник, что похоже на
перетряску старых партийных кадров и замену их новым подростом во второй пол.
30-х гг. и что, кстати, много точнее, чем сегодня, ставит вопрос о роли
личности в историческом процессе. Платонова, однако, интересует не эта «правда
жизни» (заключение машиниста за решетку), а другая, - подвергающая большому
сомнению «ценности» либерального гуманизма. «Он (следователь. - В. В.) прав, -
сказал я (рассказчик. - В. В.). “Прав, я сам знаю, - согласился машинист. - И я
тоже прав. Что же теперь будет?” Я не знал, что ответить ему» [16].
В
этом диалоге обнажается самый нерв гуманистических исканий русской литературы
второй пол. 30-х гг., с которых, как теперь представляется, и началось наше
национальное дооформление на новой основе - без буржуазии, при решающей роли
новой власти и новой, народной интеллигенции. Оно закономерно совпадает по
времени с периодом индустриализации страны, сопровождаемым «изыманием» из жизни
буржуазного «элемента» (коллективизация) и вместе ознаменованным беспримерной
консолидацией общенародных сил и невиданным в истории трудовым подъемом и
воодушевлением. В эти годы утверждает себя русская литература и достигает вершины
ее историческая проза (А. Толстой, В. Шишков, С. Сергеев-Ценский, А.
Новиков-Прибой, А. Чапыгин, С. Бородин и др.), засвидетельствовавшая мощный
рост нашего нового самосознания. В годы войны оно емко было сформулировано
Платоновым, в порядке национальной самоидентификации: «Я русский советский
солдат остановил движение смерти в мире». Поразительно, сколь далеко
простиралась наша память, культурно возделанная второй пол. 30-х и
требовательно заявившая о себе в первые же, самые катастрофические месяцы войны:
«Мы оказались слабее в воздухе, мы оказалась слабее на земле. Этого не простят
нам великие мужи, поставившие на ноги Россию. В могилах поднимаются, как
видения “Страшной мести”, отец Отечества Петр Великий, Потемкин, Суворов,
Румянцев... Поднимаются даже те, кто был сражен в силу своих убогих
политических знаний, но сильной любви к Отчизне: Лавр Корнилов, Неженцев,
Марков, Брусилов, Алексеев, Чернецов, Каледин. Они смотрят на нас: “Вы взяли
силой у нас власть из рук - побеждайте. Мы привыкли видеть, что мы ошиблись и
большевики - спасители Отечества русских. Побеждайте! Но если вы не победите,
почему уничтожили нас, почему не посторонились?”» [17]. Характерно это
исторически ответственное «мы», исключающее всякий намек на возможность
«внутренней эмиграции». Обращает также внимание «воскрешение из мертвых»
персонажей «Тихого Дона» - от Лавра Корнилова до Каледина. Словно для того,
чтобы понять социально-нравственный сдвиг в сознании казачества, произошедший
за двадцать лет после Гражданской войны. А. Первенцев записал в дневнике 24
авг. 1941 года: «Приехал Шолохов. Он едет на фронт, чтобы лично убедиться, в
чем же дело, почему мы отходим и несем воинские поражения. Фадеев оглашал его
слова об отношении казачества (даже зажиточной части) к войне с Германией: “У
нас был плохой отец, Советская власть, мы плохое видели от него, но это отец, и
отчима (вроде Краснова, “наследника” Каледина на посту атамана Войска Донского
в годы Гражданской войны. - В. В.) в дом пускать не хотим”» [18].
Страницы: 1, 2, 3
|
|