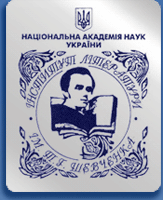Реферат: Персоносфера русской культуры 
Даже
беглый обзор галереи женских образов ставит вопрос о бедности и богатстве
идеала, а также о его добротности, пригодности для жизни, или, выражаясь сухо,
адекватности. Неадекватность возникает в том случае, когда персоносфера бедна,
а образы ее экзотичны. Женщины из жестоких романсов вроде зарезанной девушки из
Нагасаки, отравившейся Маруси и девочки из маленькой таверны сами по себе
вполне невинны, я бы даже сказал, расширяют представления если и не о женщине
как таковой, то о чем-то с ней связанном. Но все это при условии широты
диапазона. А без широты - это все то же диккенсовское "Кандальником,
сэр!".
Пересечение
в персоносфере параллелей с меридианами задает драматургию человеческих
отношений. Может быть, в первую очередь здесь действуют он и она. Перипетии
любовных диалогов, исходы любовных драм - все это черпается из недр
персоносферы и воплощается в жизнь.
И
здесь мы приближаемся к парадоксу или, если угодно, к драме нашей персоносферы.
Уже стало общим местом наблюдение, что русское "друг" не передается
английским friend или даже close friend. Наша дружба предполагает - и это
признают зарубежные исследователи - более тесные отношения. Есть повод
порадоваться, какие мы хорошие. Но вот странно... В английской и американской
литературе тема мужской дружбы звучит внятно, а у нас слышны лишь неясные, хотя
и возвышенные звуки. Да, Пьер с Андреем открывают друг другу душу, а у Холмса с
Ватсоном (как, впрочем, и у Арамиса с д'Артаньяном) этого и в заводе нет. Но
вправе ли граф Безухов похвастаться таким надежным другом, которому, как герою
О. Генри, можно адресовать короткий призыв: "На помощь, друг!" Для
нас дружба - это прежде всего доверительное общение, взаимная исповедь,
осознание братства и совместной устремленности к высшему началу. И лишь в
последнюю очередь это партнерство, парные отношения, восходящие к рыцарскому
воинскому товариществу. Но ведь именно этот рыцарский союз и есть дружба в
собственном, узком смысле слова, подобно тому как любовью в узком смысле слова
называется чувство между мужчиной и женщиной, а не братская привязанность.
Однако и в отношениях между мужчиной и женщиной в нашей литературе, как ни в
какой другой, присутствует нечто большее, чем просто любовное влечение. Здесь и
духовный союз, и целая гамма сложных чувств, иногда трогательных, как у
Александра Адуева и его молодой "тетушки" Елизаветы, иногда смешных,
как у Верховенского-старшего и Варвары Петровны. Ни для кого не секрет, что
подобная "размытость" интимных отношений присутствует и в нашей
жизни.
Но
драма нашей персоносферы распространяется не только на любовь и дружбу. Всякие
"специальные" отношения, всякий "специальный" человек
вызывают у нашей литературы некоторое подозрение: а не есть ли эта
специализация - отпадение от целого? Верный слуга, исполнительный чиновник,
хозяйственный помещик - все это хорошо, но не кроется ли за этим однобокость?
Если даже от женщины требуется нечто большее, чем любовь и семья, то что же
говорить об отношениях служебных! Социальная жизнь представлена у нас
богатейшей коллекцией карикатур, помпадурами и помпадуршами. Положительный
идеал - редкость. Может быть, драма всей нашей культуры в том, что стремление к
целостному, истинному существованию ставит под сомнение решение частных задач.
Все это, разумеется, не стоит понимать слишком прямо. В нашей персоносфере
живут и Гринев, и Савельич, и капитан Миронов, и Максим Максимыч, и Тимохин. Но
характерно, что все это герои нерефлектирующие, "простые". Чем дальше
отстоят литературные персонажи от бытовой православной жизни, тем громче
взыскует автор вышнего града. Простому чиновнику Лескова не нужно надрываться,
чтобы стать "всечеловеком". А вот у писателей больших тем коллизия
русской драмы ощутительна: либо все (чего не бывает), либо ничего (откуда
галерея уродов), либо (что чаще) постоянное недовольство собой.
Но
какие бы драмы ни разыгрывались на меридианах русской персоносферы, они
формируют нашу жизнь и требуют серьезного осмысления. Ведь здесь и любовь и
дружба, и отцы и дети, и начальники и подчиненные, и, наконец, народ и власть.
Полюса: мы и другие. Три кита русской персоносферы.
Историзм
против дидактики.
До
сих пор мы рассматривали оппозицию "я" - "другой", теперь
рассмотрим отношения "мы" - "другие". Русская персоносфера
отражает и русскую жизнь, и жизнь других народов, поскольку они имеют в ней
свои представительства в виде "переводных" персонажей.
Начнем
со "своего", а там доберемся и до "чужого". Полнокровное
существование в русской вселенной обеспечивается четырьмя источниками:
православием, историей, литературой и фольклором. История и литература - это
светская культура, православие - "духовная культура", фольклор же -
"народная культура".
Когда
одной из опор недостает, культура хромает.
Наиболее
типичный случай - человек, упустивший из виду Библию, знакомый со стихией
фольклора по анекдотам, знающий историю по ее отдельным вехам, а русскую
литературу - по тягостным школьным воспоминаниям. Таких людей Солженицын назвал
"образованщиной", хотя с таким же успехом их можно назвать и
"необразованщиной". Негуманитарное образование вообще не имеет
отношения к нашим рассуждениям, потому что само по себе не прибавляет фигур к
персоносфере человека. Гуманитарное образование, особенно филологическое, имеет
к персоносфере отношение самое прямое, но здесь-то и встает вопрос о его
качестве. Так или иначе, но литературно-фольклорная персоносфера, в которую не
так давно вводило простого советского человека наше филологическое образование,
оставляет огромный провал в понимании "своего". Попытка
интерпретировать христианский фундамент культуры как поэтический вымысел,
научную отсталость и происки попов оказалась не вполне состоятельной.
Гораздо
реже встречается фигура негуманитария-неофита, шагнувшего от братьев Стругацких
и "Техники молодежи" непосредственно к Священному Писанию. На русскую
литературу такой человек посматривает свысока, считая все светское чем-то
второсортным.
Забвение
фольклора - это следствие другого неофитства - светского. Это продолжение так
называемого гиперурбанизма, когда сельский житель, приметив, что в городе
говорят "Федор", а не "Хведор", начинает произносить
"фост" вместо "хвост". В мои ученические годы таким
"фостом" был уже упомянутый мной серебряный век. "Ante
lucem", - с вызовом произносила аспирантка, но брезгливо корчилась при
слове "былина", не помнила русских сказок и как бы не ведала о
частушках. Я не ставлю, конечно, Устюшкину мать в один ряд со святыми, в
Русской земле просиявшими, или с рефлектирующими героями русской классики, я
утверждаю только, что познание "своего" не должно быть прихотливо
выборочным. Персоносфера русской культуры - реальность.
А
что "чужое"? Как представляем себе мы иные культурные миры?
Начнем
с мира изучаемого языка. Здесь на наших глазах произошла смена парадигмы.
Сначала школа изучала иностранный язык не столько даже на русских, сколько на
советских реалиях. В учебниках изображалось то, что в логике называют
"возможными мирами". Мы перевели на английский язык слово
"колхоз", а во французский его, так сказать, заимствовали. Если
верить старым учебникам, во всех странах происходит примерно одно и то же.
Позже в основу обучения были положены коммуникативные ситуации, и теперь вместо
разговоров о забастовках можно заказать себе обед, снять номер в отеле, сделать
покупку в магазине. Но дедовский и прадедовский способ познания чужой культуры
через чужую литературу и фольклор и сейчас используется очень и очень скудно.
Ну
а что сама литература? "Зарубежку" советского периода отличало
беззастенчивое хозяйничанье в чужой культуре: в первом ряду оказались авторы,
которых у себя дома изрядно подзабыли, а во второй были оттеснены те, кто
составлял цвет чужой культуры. Любопытно, что с немецкой литературой считались
все-таки больше, чем с английской. Очевидно, длительный культурный контакт
ставил какие-то ограничения на перетолковывание чужой культуры. Вот один пример
из жизни английской персоносферы в вузовской программе по зарубежной
литературе. Диккенс, будем справедливы, входил в программу. Но что?
"Тяжелые времена". Имя Скрудж "наш человек" узнал только
благодаря мультфильму, Юрай Хипп (Урия Гип - в старой транскрипции) - благодаря
названию рок-группы, Дэвид Копперфилд - благодаря псевдониму фокусника.
Но
вузовская программа для филологов - не самые широкие двери в персоносферу.
Огромную роль в освоении чужого играет приключенческая литература, а с нею, к
счастью или к несчастью, и язык ее переводов. Русский Джек Лондон - вот самые
широкие ворота в западный мир. Твен, так много дающий для понимания Америки, -
ворота поуже.
Вообще-то
на приключенческой литературе, да и едва ли не на всем, что занимательно,
остроумно и читабельно, лежит "фост" гиперурбанического презрения.
Презрение это абсолютно безосновательно. Надо только отличать приключенческую
литературу, поставляющую в нашу персоносферу долгожителей, от литературы,
таковых не поставляющей. Последнюю, если очень хочется, можно презирать. С
первой воленс-ноленс приходится считаться. Нельзя отменить Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Можно сказать студентам, что "Три мушкетера" написал
не тот Дюма, который у себя на родине прочно вошел в курс истории французской
литературы. Но выкурить самих мушкетеров из русской персоносферы никак
невозможно. А совсем недавно в нашу жизнь вошли добротные хоббиты, до этого мы
о них и не подозревали.
Разговор
о персоносфере возвращает нас к теме школы, что, впрочем, вполне естественно:
именно она ответственна за трансляцию персоносферы и за ее единство. Сколько
себя помню, дореволюционную историографию школа ругала именно за привязывание
исторических событий к "царям". Вместо царей в ход шли
"формации" и "законы истории". В результате происходило
обеднение персоносферы. Исторический мир, лишенный исторических личностей,
оставлял в памяти только голые схемы, да и долго они там не задерживались.
По
большому счету, все это издержки культурно-исторической школы и принципа
историзма вообще. Проделав огромную работу, проявив ставшую легендарной научную
добросовестность, культурно-историческая школа упустила из виду дидактический
момент. Предположим, применительно к научной истории литературы принцип
"петраркизм важнее Петрарки" можно принять как рабочий прием, но
применительно к школьной программе этот принцип просто никуда не годится. Если
бы древним римлянам предложили вместо Вергилия "вергилизм", они были
бы, должно быть, очень озадачены. Античный мир основывал на персоносфере все
свое воспитание. Слово подкреплялось здесь пластикой. Ну а христианский мир без
персоносферы просто немыслим. Язык не поворачивается примериться с
"петраркизмом" к святому.
Историзм
фиксирует свое внимание на причинно-следственных связях, а дидактика стремится
вооружить обучаемого яркими образами, закрепляющими воспроизводимую систему
ценностей. Позитивизм, охотно делившийся своими методами с гуманитарными
науками, свел образы исторических личностей и литературных персонажей до уровня
наглядных пособий по биологии. Но заспиртованные лягушки не транслируют
этических норм, не являются примерами поведения. Если и возлагать такую задачу
на лягушек, то на басенных, которые воюют с мышами и тщатся изобразить вола.
Справедливости
ради следует сказать, что наша школа все же не была безгранично историчной. Она
отступала от этого принципа, когда речь шла о вождях революций, мятежей,
восстаний и бунтов. Образ бунтаря был разработан достаточно детально. Однако
для постижения национальных культур он мало что давал. Вся галерея бунтарей от
Спартака до Ильича даже не намекала на национальную специфику. И здесь
раскрывается еще одна грань принципа историзма: его акцентирование приводит к
интернационализации истории.
Самое
плохое, что сделала наша школа в отношении понятия "чужого" и с чем
теперь нельзя не считаться, - это то, что она создала прецедент схематического,
безбобразного его усвоения.
Оледенения и потепления. Животворящий образ и
мертвящая схема.
Обратимся
к бурным процессам, происходящим в нашей персоносфере, - к ближайшей истории, с
которой тесно связано наше сегодняшнее национальное самоопределение.
Мне
кажется, что самой большой ошибкой советской идеологии, ошибкой, которая, быть
может, стоила ей жизни, было сочинение образов "под идею". Это путь
диаметрально противоположный христианству. О Христе можно говорить и с ребенком,
но сумму христианских идей не уместишь ни в один компендиум. Мы же имели дело с
небольшим набором идеологических установок, гибко корректировавшихся в связи с
задачами дня. Набор можно было уместить в школьной тетради, и для наглядности к
установкам привязывались образы. Наспех создавалась новая персоносфера.
Даже
на образах реальных людей в советской персоносфере лежит печать поспешной
подгонки под злобу дня. Стахановцы, например, начиная с самого Стаханова,
лепились точно так же, как сегодня "раскручиваются" эстрадные звезды.
Вообще идея "звезды", не советская по своему происхождению и активно
эксплуатирующаяся у нас сегодня, замешена на том же самом эрзаце и на том же
непонимании фундаментальных свойств персоносферы. Думаю, что там, где персоносфера
"нежней", психологичней, а абстрактно-схоластическая проработка мира
"мягче", "раскрученная" культура оказывается менее
жизнеспособной. Держаться она может только за счет совсем уж девственных душ.
Ее база - либо тинейджеры, которым просто недостает жизненного опыта, либо
жители резерваций, куда вся информация поступает через радиоточки, либо люди,
не умеющие ни читать, ни писать. Байки о фантастических промываниях мозгов и
коварных политтехнологиях, способных в условиях свободы слова и всеобщего образования
имплантировать высосанные из пальца идейные установки, - сон человека,
родившегося в резервации.
Конечно,
обществу нужны и герои, и "стахановцы", и эстрадные звезды, - мало ли
чем живет полнокровная персоносфера. Только естественный путь - это путь от
личности к идеологии, а не наоборот. Идея столпничества не рождается в
кабинетах. Рождается не идея, а столпник. Исторический Стаханов не хотел читать
книг, а по схеме ему полагалось, он пил водку, а по схеме ему не полагалось.
Народ прозвал его "Стакановым", а это никак не входило в
пропагандистский план. Жития не получилось.
Не
все советские жития отличались подобной несостоятельностью, однако недоверие к
собственным святцам, быстро меняющаяся политическая конъюнктура, технологии
возведения потемкинских деревень сказались на долголетии этой персоносферы.
Еще
пышнее подгонка образа под идею, как известно, расцвела в советской
художественной литературе. Ей так и не удалось вынырнуть из "железного
потока", и, устав от него, она принялась над ним смеяться. Но он (как
"Бурный поток" Евгения Сазонова) оказался не очень-то и смешным. Сон
разума рождает чудовищ, а сон души не рождает ничего. Безбобразность скучна, ее
не хочется даже пародировать, как Мастеру не хотелось описывать Алоизия
Могарыча. Помню страдания не только абитуриентов, но и членов приемной
комиссии, когда они пытались отличить один от другого женские образы романа
"Мать". Кто Саша? Кто Наташа? Кто Софья? Хорошо, что Находка был по
крайней мере хохол. Душа на нем отдыхала.
Но
то, что не сделала или почти не сделала советская литература, сделало советское
кино. Актерская игра поддерживала целостность образа, выходила из-под
рационального идеологического контроля. Здесь действительно была игра,
импровизация в пределах темы. Как и русской классической литературе, которой и
наследовало кино, ему блестяще удались образы сатирические. Лидирует, видимо,
"Бриллиантовая рука", в чем можно убедиться, перелистывая словарь
киноцитат.
Однако
если официальные образы советской персоносферы были картонными и неживыми, то
сама она находилась в постоянном движении, и движение это не контролировалось
сверху. О последнем свидетельствуют два любопытных феномена: путь из героев в
анекдот и путь из сатиры в идеал.
Классические
герои первого пути - Василий Иванович и Петька. Эти первопроходцы выявили
глубокие тектонические процессы, происходящие в персоносфере в связи с
самоидентификацией позднего советского человека. Некогда с Василием Ивановичем
и Петькой надо было соотносить себя. "А теперь?" - спросил себя
советский человек, окончивший десятилетку, - и начал помещать эти образы в
заведомо современные ситуации. Анекдоты строились на неадекватности старого
Василия Ивановича новой жизни. Герой не понимал новых слов, не соблюдал правил
гигиены, не знал (что достаточно любопытно) английского языка.
И
вместе с тем юмор анекдотов о Василии Ивановиче я не назвал бы злым. Смеялись
над собой, над теми своими чертами, с которыми спешили расстаться. Показателен
и гигантизм анекдотического образа. У Василия Ивановича был масштаб Гаргантюа.
Стоило ему опустить в озеро носок - и вся вода делалась черной. Мощный,
дремучий, почти хтонический образ революционного прошлого в рецепции советского
инженера - вот что такое Василий Иванович.
Более
тонкое дело - анекдоты о поручике Ржевском. Тут, напротив, себя помещали в
дворянскую среду - и тем самым тоже смеялись над собой. Проверяли, насколько
мы, теперь уже образованные, соотносимся с теми, из царской России, про которых
учат в школе. Неспроста Ржевский общался с Наташей Ростовой. Чтобы поддержать
светский разговор, он подбрасывал ногой собаку и галантно замечал: "Низко
пошла!" Смеялись главным образом над своей неловкостью и неотесанностью,
отсутствием должной куртуазии в обращении с дамой.
Другой
путь - путь из сатиры в идеал. Его с блеском проделал Остап Бендер Задунайский.
Бендер как положительный идеал вызревал в среде советской интеллигенции, не в
последнюю очередь партийной, на протяжении пятидесятых - шестидесятых -
семидесятых годов. Своеобразная и достаточно амбивалентная фигура, великий
комбинатор был носителем расхожих истин, не санкционированных официальной
моралью, но тем не менее широко применяемых в быту. По-видимому, без Бендера
концептуализация нашей хозяйственной жизни вообще была бы невозможной.
"Сначала деньги, потом стулья" и прочее, и прочее. В условиях
культурного дефицита Бендер был единственным полноценным жителем этого сектора
персоносферы. Интересно отметить и своеобразную демократизацию образа Бендера:
в тридцатые годы это был герой интеллигенции, в конце семидесятых он спустился
до уровня хозяйственника с неоконченным высшим. Не надо забывать и о том, что
великий комбинатор восполнял старую лакуну - был достаточно обаятельным для
человека, блюдущего свою выгоду. Первые представления о морали в бизнесе несут
на себе отпечаток именно его черт.
Безбобразность
советской персоносферы, ее картонность вызвала к жизни еще одно мощное явление
- вестернизацию. Но слово "вестернизация" отражает лишь поверхность
этого непростого феномена. Дело не в одном только заимствовании западных слов,
стереотипов или институтов. Дело в том, что в теории тропов (образов)
называется "реализацией метафоры". Метафорическое "чужое"
используется как материал для постижения, упорядочения "своего".
Сегодня мы понимаем под цирком не совсем то учреждение, что было в древнем
Риме. Арена - это отнюдь не посыпанная толченым мрамором площадка для
гладиаторских боев. Но если бы мы вдруг завели у себя цирк в старинном смысле
слова, то есть реализовали метафору, мы бы уже не распевали: "Цирк не любить
все равно, что детей не любить".
Когда
"свое" становится безликим, к "чужому" обращаются не как к
метафоре, а как к источнику восполнения "своего". Чужое
"свое" выглядит при этом достаточно фантастично. Многое тут и
началось с фантастики, с гриновского мира, с Зурбагана и Лисса. В сущности, это
мир макаронический, мир иностранно-русской диффузии. Асоль и капитан Грей
говорят по-русски не потому, что они переведены на русский язык, как Смок и
Малыш, а потому, что они рождены на русской почве. А с ними и Ихтиандр, и
пираты из мультфильмов и авторской песни, и волшебник Изумрудного города, и
другие ангажированные и неангажированные макаронические персонажи, по-своему
сигнализирующие о разломах в нашей персоносфере.
Истинный
же вред безбобразности, о которой говорилось выше, - это невозможность задать
норму.
Язык,
не поддержанный персоносферой, не может быть задан как норма, как образец. Все
литературные языки сформировались под влиянием практики художественной
литературы. Пушкин стал основоположником русского литературного языка не
потому, что так захотел царь Николай или, предположим, декабристы, а потому,
что языку Пушкина хотелось подражать. Безличные, призрачные силы не способны ни
задавать, ни поддерживать норму. Отсутствие авторитетных писателей, отказ литературы
от создания ярких персонажей не создают условий для закрепления языковой нормы.
Это трагедия наших дней.
То
же самое справедливо и в отношении норм поведения. Для современного публичного
пространства характерно бытование лозунгов, за которыми нет никакого образа.
Огромное
распространение получили сегодня лжеобразы - образы "раскрученные",
ненастоящие. Не все лжеобразы сочиняются под идею. Иные рождаются под девизом
искусства для искусства, если только этот девиз можно отнести к ситуации, когда
искусством не пахнет. Избыточное, пустопорожнее образотворчество пустило корни
в художественной литературе. Семиотически оно похоже на создание ненужных
перифразов вроде "обойтись посредством носового платка". Лжеобразы
активно творятся в мире эстрадных звезд, сочиняются в ходе пиар-кампаний. Все
это - деньги, вложенные в холст, на котором ничего не написано.
Реставрация персоносферы?
Исторические
разломы в коре персоносферы, пустыни лжеобразов наводят на мысль о желательной
реставрации персоносферы русской культуры. Возможна ли такая реставрация как
культурный проект?
Оплот
русской персоносферы - русская классика, а естественный ее хранитель - русская
интеллигенция. В свое время было много дискуссий о том, что же такое настоящий
русский интеллигент. Обычно спорщики, среди которых были и люди очень для меня
авторитетные, начинали с того, что интеллигентность не имеет отношения к
профессиональным занятиям, затем, развивая эту мысль, говорили, что она не
имеет отношения и к образованности, а далее обращались к высоким моральным
качествам русской интеллигенции, причем каждый называл те из них, которые ему
больше приглянулись: жертвенность, бессребреничество и даже готовность за свои
убеждения взойти на костер. Вот уже лет двадцать, как хочется на это возразить,
и год за годом я все больше и больше укрепляюсь в своих возражениях.
Старую
интеллигенцию мне случалось наблюдать вживе. Благодаря отдельным семейным
заповедникам ее можно увидеть и сегодня. Последним, с кем довелось мне
разговаривать, был покойный Владимир Сергеевич Муравьев. А познакомился я с ним
при весьма знаменательных обстоятельствах, способных, как мне кажется, пролить
свет на природу старой русской интеллигенции. На сайте "Дальняя
связь" были помещены вопросы Владимира Сергеевича о Толстом и Достоевском.
Главная мысль вопрошающего состояла в том, что именно Толстой и Достоевский
определили наше умственное пространство, в связи с чем он и интересовался
отношением читателей сайта к этим писателям. Вопросы, ответы и комментарии к
ним В.С. Муравьева печатались в "Независимой газете". То, что
уместилось на паре газетных страниц, можно смело назвать диалогом между русской
и советской интеллигенцией. Диалогом и коммуникативной неудачей. Для читателей
сайта оказалась непонятной сама идея презумпции русской литературы - идея, из
которой исходил переводчик и литературовед Муравьев. О Толстом и Достоевском
говорили просто как об авторах, которых когда-то прочли (многие без стеснения
признавались в том, что не смогли дочитать длинных романов до конца). Толстого свысока
поругивали за отклонение от православия, Достоевского - за национализм.
Похваливали бывших властителей дум за их, так сказать, литературные дарования.
Реакция автора вопросов только на первый взгляд могла показаться неоправданно
гневной, ибо старая русская интеллигенция - это та часть России, для которой
русская словесность, русская книжность были альфой и омегой ее существования.
Русская интеллигенция жила в пространстве, созданном русским Словом, в русской
персоносфере, считала ее исходной реальностью, мерила жизнь ее мерками.
Бессребреничество и прочие добродетели - лишь следствие того климата, который
царил в этой персоносфере. Отлучение Толстого и толстовство, безумное
бунтарство и расшатывание устоев, столь же нетерпимая "охранительность",
спор славянофилов и западников - все это дела внутренние, и чтобы вникнуть в
них, надо поселиться в царстве русской культуры, а не наблюдать его в музейной
экспозиции, зевая перед громоздкими экспонатами вроде "Братьев
Карамазовых".
С
русской персоносферой и с русской интеллигенцией дело обстоит достаточно ясно.
Вопрос в том, насколько живы сейчас и та, и другая (при том, что жизнь одной
без другой представляется достаточно проблематичной). Чтобы ответить на этот
вопрос, надо задуматься над тем, а что же такое советская и постсоветская
интеллигенция и что такое советская и постсоветская персоносфера. Ясного ответа
на эти вопросы у меня нет. И все же попробую дать общий его абрис.
За
годы советской власти персоносфера пополнилась многими именами. В ней, например,
поселился Буратино, которого Ю.С. Степанов удостоил включения в словарь
концептов русской культуры. Но сама советская персоносфера не обладает той
цельностью, которой обладала старая русская. На ней отразилась череда
идеологических кампаний, колебание "генеральной линии", глубокий
внутренний раскол общества, образовавшийся после семнадцатого года, постоянное
сокращение социальной базы примитивного агитпропа, бытование несусветного
количества призрачных персонажей - поручиков Киже, делающих персоносферу растяжимой.
Неоднородна и сама советская интеллигенция, состоящая, помимо всего прочего,
далеко не в таких кристально ясных отношениях с собственной персоносферой, как
интеллигенция старая.
Мне
кажется, что с середины шестидесятых годов стала складываться новая российская
интеллигенция - носительница новой персоносферы. Эта персоносфера вобрала в
себя значительную часть старой русской и наиболее жизнеспособную часть ранней
советской. Это персоносфера, где проживают Высоцкий, Окуджава, великие артисты
советского кино, космонавты, Штирлиц и Деточкин, Сахаров, Солженицын, Хрущев,
Брежнев, физики, художники... Главная ее особенность - малый удельный вес
художественной литературы, пока еще неуверенное освоение религиозной культуры,
угасание сельского фольклора и расцвет городского.
В
постсоветское время в формировании персоносферы обозначились центробежные силы.
Расцвели субкультуры и разного рода, как теперь принято говорить, тусовки. Для
интеллигенции культура тусовок равнозначна самоустранению: или они, или она.
Сегодня интеллигенция существует постольку, поскольку тусовки еще не покрывают
всего социального пространства. Общенациональная же персоносфера поддерживается
главным образом существованием телеперсонажей. Это последний на сегодняшний
день источник "образов". Персоносфера пополнилась телеведущими и
героями мексиканских сериалов. Под ружье встала эстрада. Алла Пугачева и Филипп
Киркоров занимают умы вместо Татьяны Лариной и Евгения Онегина.
Пока
интеллигенция упражняется в самоуничтожении, плодя тусовки и не утруждая себя
высоким или даже приличным слогом, власть старается сколотить общенациональную
платформу из неодиозных (или кажущихся неодиозными) частей советской культуры,
с надеждой поглядывая в сторону религии и русской старины. Что до меня, то я приветствую
этот замысел как конструктивную идею. Исполнение же его (как оно выглядит на
сегодняшний момент) я приветствовать никак не могу, потому что ставка делается
на символы и слоганы, в лучшем случае на идейные установки, но не на образы, не
на живые примеры. Конечно, можно сочинять образы под идеи, даже под лозунги, и
охотники всегда сыщутся, ибо жива старая традиция возведения потемкинских
деревень. Но ведь такое уже было, и плоды оказались горьки...
В
одном можно быть совершенно уверенным. Поддерживая русское Слово, относясь к
образам русской персоносферы как к образам, а не комиксам, мы поддержим нашу
культуру в момент, когда она переживает не лучшие свои времена.
Список литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.relga.ru/
|