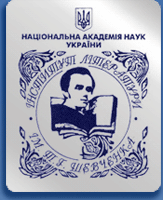Реферат: А. Фет и эстетика "чистого искусства" 
"СВОБОДНОЕ
ИСКУССТВО... ТРЕБУЕТ"
Завершая
творческую жизнь, Фет, прежде многократно формулировавший в статьях и письмах
свои эстетические убеждения, еще раз, быть может, с мыслью о том, что это будут
итоговые обобщения, высказал их в переписке с поэтом К. Р. - своим горячим
поклонником. Не то чтобы это было задумано как некий целостный и стройный
трактат, но в итоге эпистолярного диалога, содержащего эстетические размышления
и советы Фета, сложилось рассуждение "о поэтическом искусстве",
своего рода фетовское "De arte poetica" (именно так назывался трактат
Горация, переведенный Фетом).
Речь
идет не о литературе в целом, но только о поэзии, и притом - поэзии лирической.
Лирическая же поэзия, по убеждению Фета, не терпит пространных, подробных
описаний, - в ней все должно быть сконцентрировано вокруг лирического события,
а изображение неопределенных чувств, в чем обычно упрекали "чистых
поэтов", годится, по мысли Фета, только для прозы (неожиданное и очень
интересное замечание). "Страдание, счастие, гнев, ужас и т.д., словом
сказать, все мотивы дороги поэту как мотивы к произведению стройных и
одноцентренных выпуклостей, а о том, что кто-то страдал неведомо чем, а другой
при лунном свете его любил, может быть гораздо толковее разъяснено прозой, и
рождается вопрос, зачем же тут стихи и рифмы? Зато пусть кто-нибудь попробует
рассказать прозой любое стихотворение Гете, Пушкина, Тютчева или Гафиза"
(27 декабря 1886 года) [55]. Заметим, что не только страдание, но гнев и ужас
Фет считал законными темами лирики, за исключением тех произведений, в которых
они имели социальное или политическое содержание.
Другой
важный тезис Фета - требование сжатости и емкости лирического произведения, его
индивидуальной музыкальной интонации. "Лирическое стихотворение подобно
розовому шипку: чем туже свернуто, тем больше носит в себе красоты и аромата
<...> Дело поэта найти тот звук, которым он хочет затронуть известную
струну нашей души. Если он его сыскал, наша душа запоет ему в ответ; если же он
не попал в тон, то новые поиски в том же стихотворении только повредят
делу" [56].
Звук,
мелодия, изначальная интонация несут предощущение главного смысла лирического
произведения, непосредственно затрагивая душу.
Приближается
звук. И покорна щемящему звуку
Молодеет
душа, -
так
начал Блок одно из своих очень близких Фету стихотворений.
Известно
суждение о Фете Чайковского (тоже в письме к К. Р. от 28 августа 1888 года):
"Фет, в лучшие свои минуты, выходит из пределов, указанных поэзии, и смело
делает шаг в нашу область. Поэтому часто Фет напоминает мне Бетховена, но никогда
Пушкина, Гете, или Байрона, или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть
затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и
сильным, но ограниченным пределами слова. Это не просто поэт, а скорее
поэт-музыкант" [57]. Чуткость Фета к музыкальности стихотворной речи была
необыкновенной: "У всякого поэтического стиха, - писал он Полонскому, -
есть то призрачное увеличение объема, которое существует в дрожащей
струне" (21 декабря 1890 года).
Отзыв
Чайковского, который передал Фету К. Р., очень обрадовал поэта: "То, что
Чайковский говорит, - для меня потому уже многозначительно, что он как бы
подсмотрел художественное направление, по которому меня постоянно тянуло и про
которое покойный Тургенев говаривал, что ждет от меня стихотворения, в котором
окончательный куплет нужно будет передавать безмолвным шевелением губ.
Чайковский тысячу раз прав, так как меня всегда из определенной области слов
тянуло в неопределенную область музыки, в которую я уходил, насколько хватало
сил моих" (8 октября 1888 года) [58]. И действительно - всегда: еще раннее
стихотворение "Как мошки зарею..." он закончил строчками, ставшими
затем крылатыми: "О, если б без слова / Сказаться душой было можно!"
(1844). Через много лет Блок записал их для себя на отдельном листке, который
сохранился в его архиве [59].
Еще
одно "главнейшее правило" для поэта-лирика в понимании Фета - это
необходимость в единичном, "случайном" событии раскрыть вечное, и
именно то, что в такой степени не под силу другим искусствам. "Стихотворения
на известные случаи - самые трудные; и это понятно: нужна необычайная сила,
чтобы из тесноты случайности вынырнуть с жемчужиной общего, вековечного".
Фет приводит в пример стихотворение Пушкина "Для берегов отчизны
дальной": "Конечно, прощание Пушкина с иностранкой случайно, но он и
не бьет на эту случайность, а лишь на
но
ты от страстного лобзанья
свои
уста оторвала,
которое
составляет вековечный элемент искусства и только одной поэзии потому, что
изображения этого момента для всех иных искусств недоступны" (27 декабря
1886 года; курсив мой. - Л. Р.) [60].
Следующее
"правило", которое формулирует Фет, - необходимость новизны,
нетерпимость повторений: "Поэзия непременно требует новизны, и ничего для
нее нет убийственнее повторения, а тем более самого себя. Хотя бы меня самого,
под страхом казни, уличали в таких повторениях, я, и сознавшись в них, не могу
их не порицать. Под новизною я понимаю не новые предметы, а новое их освещение
волшебным фонарем искусства" [61].
Все
эти эстетические принципы, "правила" не содержат еще ничего
относящегося собственно к "чистому искусству". Но Фет не забывает
отметить отличия своей поэзии от демократической, - он с них и начинает:
"В пятидесятых годах, когда еще не было никаких партий, литература
настойчиво окружала меня далеко незаслуженными похвалами; но когда в
шестидесятых она убедилась, что я действительно люблю свободу и не пойду
кланяться "народному кумиру" только из-за того, что толпа его считает
модным, - та же литература не переставала в течение двадцати пяти лет считать
меня за механическую голову турка, над которой всякий пробовал силу своего
удара. Потом меня совершенно забыли" (5 декабря 1886 года) [62]. Здесь
опять - уже известный мотив об остракизме, которому в течение многих лет был
подвергнут Фет, о чем он с горечью писал в Предисловии к третьему выпуску
"Вечерних огней". И объяснение все то же - неприемлемая для его
литературных противников "чистота служения" свободному искусству.
В
своих эстетических тезисах, которые изложены в переписке с К. Р., Фет стремится
быть терминологически точным. Если иногда, как, например, в письме к
Полонскому, он позволял себе, парадоксально заостряя мысль, заявлять, что
художественное произведение, в котором есть смысл, для него не существует (23
января 1888 года), здесь он говорит не об отсутствии мысли в художественном
произведении, а о ее принципиально ином качестве. В сущности, он остается при
постоянном своем убеждении, что в поэтическом произведении должна быть
поэтическая мысль, и опять-таки, как всегда, отказывает в ней своим оппонентам:
"Едва ли я ошибусь, сказавши, что свободное искусство, невзирая на
прекрасный и, по-видимому, благодарный материал, требует от возникающего
произведения собственного raison d’etre <т. е. - смысла>, независимо от
какой-то внешней полезности, которою, очевидно, увлекался покойный Некрасов и
так плачевно извратил вкус своих последователей" (27 декабря 1886 года)
[63].
Итак,
с 60-х годов и до конца жизни Фет исключает из сферы свободного искусства
поэзию, идеологически ему чуждую, не видя в этом, о чем в свое время писали и
Достоевский, и А. Григорьев, и Тургенев, насильственного ограничения
провозглашаемой свободы. Сама формула Фета: "Свободное искусство...
требует" очень выразительна в этом смысле.
Но,
сохраняя критическое отношение к направлению Некрасова, Фет впервые (в письме к
К. Р. от 12 февраля 1888 года) говорит о творчестве своем и Некрасова как
некоем едином этапе в развитии русской послепушкинской поэзии, называя его
болезненным. "По-моему, совершенно явно, что в болезненности современной
лирики виновны Некрасов и Фет. Первый выучил всех проклинать, а второй -
грустить. Но - tout comprendre c’est tout pardonner" [64]. Видимо,
определение "болезненная поэзия" хорошо помнилось Фету со времени
статьи А. Григорьева "Русская изящная литература в 1852 году", где
критик относил к этому направлению вслед за Гейне и некоторые особенности
творчества Фета (но не всю его поэзию). А. Григорьев отчетливо разделял поэзию
Фета на две сферы. Одна из них, условно говоря, - гармоническая, к которой
Григорьев относит не только антологические стихи, но и такие элегии, как
"Многим богам в тишине я фимиам воскуряю...", "О, долго буду я в
молчанье ночи тайной...". "Напомним также и другую элегию, -
продолжал Григорьев, - отличающуюся необыкновенной искренностью и простотою
чувства:
Странное
чувство какое-то в несколько дней овладело
Телом
моим и душой, целым моим существом.
Напомним
"Вечера и ночи", которые дышат совершенно объективным спокойствием
созерцания, - вот одна сторона таланта Фета".
Другую
сторону таланта Фета, развившуюся чрезвычайно самобытно "по условиям,
вероятно, лежащим в натуре лирика и в исторических данных эпохи",
Григорьев называет "болезненной", иначе говоря субъективной:
"Дело в том только, что вследствие какого-то странного, болезненного,
совершенно субъективного настройства души, - поэт отзовется на это таким
особенным, странным звуком <...> Из болезненной поэзии Фет развил,
собственно, одну ее сторону, сторону неопределенных, недосказанных, смутных
чувств". В этой связи Григорьев цитирует стихотворения Фета "Когда
петух...", "Как мошки зарею...", "Весеннее небо
глядится...", "Младенческой ласки доступен мне лепет...",
"О, не зови! Страстей твоих так звонок...", "Мы одни; из сада в
стекла окон..." [65].
Через
много десятилетий Блок будет оппонировать мнению А. Григорьева о болезненности
стихов Фета, беря это определение в иронические кавычки: "Что же касается
Фета... Есть на свете положения, которые говорят сами за себя. Вот одно из
таковых: журнальная свора рвется с цепи, не находя слов для оскорбления поэзии
Фета; А. А. Григорьев многословно колесит вокруг Гейне, рассыпая перед кем-то
бисер своей любви к Фету и стараясь объяснить (кому?) его
"болезненные" стихи, а в это время сам автор "болезненных стихов",
спокойный и мудрый Афанасий Афанасьевич, офицер кирасирского полка, помышляет
лишь об одном: как ему взять лошадь в шенкеля и осадить ее на должном
расстоянии перед государем" [66]. Блок пишет свою статью, когда огромное
значение художественных открытий Фета, его влияние на поэтику символистов были
давно признаны. "Теперь только, когда Фет причислен всеми к нашим великим
поэтам, - замечает он, - очевидна ненужность многословных объяснений
Григорьева" [67]. Но это теперь "очевидна ненужность", а по
отношению к той давней статье Григорьева Блок и несправедлив, и даже несколько
антиисторичен.
Представляется,
что для самосознания Фета и его восприятия современной литературы статья имела
немалое значение. Фет пользуется григорьевским термином, более того - развивает
характеристики не только субъективных, но и объективных причин возникновения
"болезненной" поэзии. Если Григорьев писал об условиях, лежащих
"в натуре лирика и в исторических данных эпохи", то Фет в
цитированном выше письме к К. Р. высказывается на эту тему более определенно и
подробно: "Я, кажется, говорил Вашему Высочеству, что диктую свою
автобиографию. Если тесная и грязная стезя, по которой пришлось пробираться
Некрасову, может, независимо от прирожденного характера, помочь объяснить его
озлобление, то постоянно гнетущие условия жизни в течение пятидесяти лет могут
отчасти объяснить меланхолическое настроение Фета. Справедливо или нет,
Некрасов и Фет имели успех, и этого достаточно было для подражателей"
[68].
Это
письмо написано за год до празднования пятидесятилетия Музы Фета, и его слова
несомненно отражают размышления об итогах пути. Здесь, в частности, Фет впервые
называет себя "певцом русской женщины", упоминая в этой связи только
Тютчева, хотя Фет не мог, конечно, не помнить, что прославленным певцом русской
женщины считался покойный Некрасов. Но он отмечает свои заслуги, свою
собственную стезю в этой области.
Лирический
герой Фета всегда был пленен красотой и душевным очарованием русской женщины:
Только
в мире и есть, что тенистый
Дремлющих
кленов шатер.
Только
в мире и есть, что лучистый
Детски
задумчивый взор.
Только
в мире и есть, что душистый
Милой
головки убор.
Только
в мире и есть этот чистый
Влево
бегущий пробор.
(1883)
Еще
в начале пути Фет придал эти прелестные черты облику своей музы:
Мне
музу молодость иную указала:
Отягощала
прядь душистая волос
Головку
дивную узлом тяжелых кос;
Цветы
последние в руке ее дрожали...
("Муза",
<1854>.)
Особенно
привлекали Фета духовно незаурядные, талантливые женщины, их внимание к своему
творчеству он чувствовал. "Есть небольшой кружок образованных русских
женщин, - писал он К. Р. 23 июня 1888 года, - симпатизирующих моей музе. Вот
среда, внимание которой было бы для меня весьма лестно, так как в сущности я
певец русской женщины" [69]. Признание Фета - не случайное и не
единственное. Примерно в то же время, 25 июля 1888 года, Фет писал С.
Энгельгардт: "Подобно Тютчеву, и даже более, чем Тютчев, я певец русской
женщины. Для меня не секрет, что большинство русских порядочных женщин не только
не в состоянии определить приблизительный рост моего таланта, но даже едва ли
слыхали о моем литературном имени; но зато среди светских женщин я лично знаю
многих, сочувственно относящихся, считая в числе последних и Вас".
Восхищение
Фета всегда вызывала жена Л. Толстого Софья Андреевна, что отразилось не только
в его известных стихах, воспевавших красоту, обаяние и неувядающую молодость
героини ("Когда так нежно расточала..." - 1866, "К портрету
графини С. А. Толстой" - 1885, "Графине С. А. Толстой" - 1886,
'Ей же. Во время моего 50-летнего юбилея" - 1889), но и в обширной
переписке, представленной в фетовском томе "Литературного
наследства". В письме от 19 августа 1888 года Фет называет Софью Андреевну
"величайшей умницей". Он постоянно обсуждает с ней сложные
философские и литературные проблемы, в том числе, как мы знаем, и свои
разногласия с Л. Толстым: "... я ощущаю себя с ним единым двуглавым орлом,
у которого на сердце эмблема борьбы со злом в виде Георгия с драконом, с тою
разницей, что головы, смотрящие врозь, противоположно понимают служение этой
идее" (14 сентября 1891 года).
Фет
постоянно выражает свой восторг и удивление перед тем, как гармонически
сочетаются в Софье Андреевне высокие духовные интересы, тонкий эстетический
вкус и неутомимая практическая деятельность: "Ваша жизнь обставлена такими
живыми и высокими интересами, что какого бы клочка Вы ни вырезали из Ваших
будней, клочок этот оказывается крайне интересным не для одних друзей
Ваших" (21 июля 1887 года). И несколько позднее - о том же: "Женщины
по природе мало практичны в больших делах, и трудно быть практичным в самом
центре идеальных воззрений. Не в гармоническом ли слиянии этих двух духовных
сторон следует искать разгадку этой радости, которую возбуждает во мне всегда
беседа с Вами?" (27 августа 1887 года).
И
конечно, особенную, ни с чем не сравнимую радость вызывали у Фета отзывы о его
стихах, какие не раз встречаются в письмах Софьи Андреевны: "Стихи ваши
доставили нам огромное эстетическое наслаждение. Мы оба с Львом Николаевичем
особенно восхищались "Горной высью". Эти стихи суть сами по себе та
Горная высь поэзии, недостижимая нам, простым смертным, тающим перед ней, как
облака. Как хорошо! Вот высшего полета поэзия!" (7 октября 1886 года).
В
это время Фет чувствовал себя самым крупным русским поэтом и вообще он считал
себя лучшим лирическим поэтом в современном мире: "Надо быть совершенным
ослом, чтобы не знать, что по силе таланта лирического передо мной все
современные поэты в мире сверчки", - писал он Страхову 27 мая/8 июня 1879 года.
В
кругу современных поэтов, в том числе и поэтов "чистого искусства",
Фет ощущал себя в большой степени одиноким. Хотя он не возражал против
предложения Полонского отпраздновать совместный юбилей "трех
мальчиков" (Фета, Полонского, Майкова), но, как свидетельствует переписка,
всегда был готов "заметить разность" между собой и другими поэтами.
31 марта 1890 года Фет сообщал Полонскому: "Сегодня мне с двух сторон
прислали фельетон "Нового времени" от 30 марта с разбором статьи
Бауэра о русской литературе вообще и между прочим обо мне в частности.
Несомненно верно говорит немецкий критик, что я не принадлежу ни к какой партии
<...> Но что меня, признаюсь, озадачило, - это то, что критик, вместо
того, чтобы подбирать, мне под пару, людей с бессознательным вдохновением
вроде: "И мне чудится, будто скамейка стоит" (то есть Полонского. -
Л. Р.), - набирает Алексея Толстого и - о боги! - в качестве поэта Ивана
Аксакова. Никто более меня не ценит милейшего, образованнейшего, широкописного
Ал. Толстого, - но ведь он тем не менее какой-то прямолинейный поэт. В нем нет
того безумства и чепухи, без которой я поэзии не признаю <...> Я бы не
стал упоминать этих, в сущности, добрейших людей; но не могу молчать, когда
стараются навязать мне с ними солидарность, тогда как я прямая им
противоположность".
Фет
мог надеяться на сочувственное понимание Полонского, поскольку тот не раз писал
ему о его исключительном даре лирика. Сходились они и в оценках молодых
писателей, заявивших себя в 80-е годы и им обоим мало знакомых. "Что мы
значим для молодого поколенья, - у которого есть свои Надсоны, свои Фофановы,
Минские, Ясинские, Чеховы... и проч. и проч. Самые наши имена уже приелись,
надоели..." (Полонский - Фету 8 октября 1888 года). И он же спрашивал
Фета: "Слыхал ли ты когда-нибудь, что у нас в моде поэт Фофанов, которого
раскупают так, как нас с тобой никогда не раскупали" (7 июля 1889 года).
"Что касается до меня, то я слишком поверхностно знаком с произведениями
Фофанова, - отвечал Фет 14 июля, - и слова мои о нем могут иметь только весьма
относительное значение. Поэтическая жилка в нем бесспорна, и я лично, а быть
может и другие, можем порадоваться, читая Фофанова, бесследному исчезновению
той поганой семинарской гражданской скорби, которой хвост еще под соусом
подавался у Надсона <...> Надо быть дубиной, чтобы не различать
поэтического содержания Тютчева, Майкова, Полонского и Фета. Но какое
содержание у Фофанова? Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что это варьяции
на Фетовские темы".
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|
|