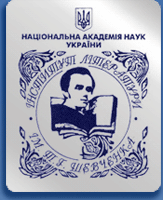Курсовая работа: Давид Юм. Его жизнь и философская деятельность 
В
1756 году Юм издал второй том своей «Истории», а через год приступил к работе
над ее третьим томом. Извещая своего издателя Миллера об этих занятиях, Юм
радуется тому, что наконец дошел до царствования Генриха VII, с которого,
собственно говоря, и начинается новая история. «Жаль, — говорит он, — что я не
начал своего труда именно с этой эпохи: тогда я избежал бы многих нареканий, раздавшихся
по поводу двух первых ее томов. В этом же (1757) году Юмом были напечатаны
четыре рассуждения: «Естественная история религии, страстей, трагедии, образцов
вкуса» («Four Dissertations: the Natural History of Religion, of the Passions,
of Tragedy, of the Standard of Taste»).
Вскоре
за тем Юм написал довольно лаконическое письмо декану Общества эдинбургских
адвокатов, уведомляя его, что должность библиотекаря не настолько соответствует
его привычкам и вкусам, чтобы он мог оставаться в ней; притом она доставила ему
если не врагов, то противников в обществе адвокатов.
Освободившись
от занятий библиотекаря, Юм стал хлопотать о том, чтобы покинуть Эдинбург и
переехать в Лондон, «вероятно, навсегда», — писал он своему другу Клефену.
Довольно трудно понять, какие причины побуждали Юма расстаться с любимой
родиной и променять ее на Англию, к которой он чувствовал сильную антипатию. Из
переписки Юма с Робертсоном, относящейся к этому времени, видно, что отъезд
философа из Шотландии имел большую связь со свадьбой его брата и что, несмотря
на все желание избежать поездки в Лондон, Юм не мог остаться у себя дома.
Однако недолго, не больше года, прожил он в столице Англии; вероятно, время
взяло свое, причины, вызвавшие отъезд Юма из Эдинбурга, мало-помалу потеряли
свою силу,, а любовь к родине и тоска по ней окончательно побудили его к
возвращению домой. В ноябре 1759 года мы видим Юма снова в Эдинбурге, занятого
пересмотром и исправлением первых томов своей «Истории». Между тем, последние
сочинения шотландского философа, главным же образом его исторические труды,
приобретали все большую и большую популярность за границей. Во Франции они
появлялись в нескольких переводах и находили себе тонких ценителей среди
образованных представителей и представительниц парижских салонов. Одной из
горячих почитательниц Юма сделалась госпожа Буффле, имевшая славу первой
красавицы Парижа. Прочтя написанную Юмом историю дома Стюартов, эта парижская
львица пришла в такой восторг, что написала автору пламенное послание, в
котором характеризовала книгу Юма как «terra fecunda* морали и поучений». Юм
ответил своей почитательнице очень любезно, но сдержанно; на просьбу же госпожи
Буффле приехать в Париж выразил надежду, что со временем воспользуется этим
приглашением. Главным занятием в эту пору пребывания Юма на родине было
исправление и продолжение исторических трудов; в марте 1763 года он сообщил
Гилберту Эллиоту, что ему удалось снять с Иакова I обвинение в преследовании
пуритан и что он восстановил репутацию Иакова II и английской судебной палаты.
В том же месяце Юм известил Миллера, что он не оставляет намерения продолжать
свою «Историю».
*
Плодородная почва (лат.). — Ред.
Глава IV
Жизнь
Юма в Париже в качестве секретаря посольства. — Знакомство с Ж. Ж. Руссо. —
Возвращение на родину. — Новый административный пост, предоставленный Юму. —
Последние годы жизни в Эдинбурге. — Болезнь и смерть Юма
В
1763 году новая и весьма важная перемена произошла в судьбе Юма: от маркиза
Гертфорда, назначенного на пост английского посланника во Франции, он получил
приглашение занять место секретаря посольства. Не знакомый с Юмом лично, маркиз
много слышал о его административных способностях от генерала Сен-Клера; да и
прочный, хотя медленный, успех философских и исторических трудов Юма сделал к
этому времени его имя известным повсюду в Англии; тем не менее, приглашение
маркиза не столько обрадовало, сколько удивило Юма: «Решительно непонятно, как
случилось, что подобный пост был предложен философу, писателю, человеку никоим
образом не придворному и с самым независимым духом», — писал Юм в одном из
писем. Сначала он отклонил почетное предложение посланника, но потом передумал:
для философа с нелестной репутацией безбожника и нечестивца было очень важно
вступить в тесные сношения с маркизом Гертфордом, который слыл за человека
добродетельного и благочестивого. Кроме того, с местом секретаря посольства,
обещанным Юму, были связаны значительные денежные выгоды. Приняв все во
внимание, философ согласился на предложение Гертфорда и в сентябре 1763 года
выражал Адаму Смиту то искреннее сожаление, с которым он меняет спокойствие,
уединение и независимость на жизнь тревожную, шумную и полную новых
обязанностей. «Я пустил такие глубокие корни в Шотландии, что с большим трудом
могу представить себя перенесенным куда-либо», — говорит Юм. На деле оказалось,
что шотландского философа ожидал в Париже такой блестящий прием, такое
чествование, благодаря которым серьезный мыслитель вообразил себя среди людей,
родных ему по духу и убеждениям. Без конца восхищаясь умом, развитием и тонким
литературным вкусом парижан, Юм одно время мечтал даже окончательно променять
свою родину на гостеприимную Францию. Вот что пишет он об этом в автобиографии:
«Живя в Париже, испытываешь большое удовольствие от сообщества с разумными,
учеными и вежливыми людьми, которых здесь больше, чем где-либо в целом свете.
Поэтому одно время я намеревался остаться жить там до моей смерти». Это решение
философа, по-видимому, слишком опрометчивое и не свойственное его
рассудительной натуре, не должно удивлять нас: давно известно, что «наша родина
там, где нас понимают и любят». Кому же было и ценить каждое проявление
единомыслия и сочувствия, как не Юму, которого соотечественники так долго и
упорно терзали всем, что можно придумать обидного и горького для человека и для
писателя, — несправедливой критикой, равнодушием, забвением, обвинением в самых
безнравственных намерениях, наконец, просто мелочными сплетнями и наговорами.
Посмотрим же, чем обусловливалось совершенно противоположное отношение
французов к Юму.
Во
второй половине XVIII века высшее общество Парижа представляло оригинальную и
характерную смесь самых разнородных элементов. Наиболее заметными, выдающимися
людьми в нем были невежественные куртизанки наряду с такими представителями ума
и гениальности, как д'Аламбер, Монтескье, Дидро, Кондорсе и другие. Интерес дня
сосредоточивался на том лице, которое успевало обратить на себя внимание
чем-либо новым, до того невиданным, все равно, было ли это из ряда вон хорошее
или дурное отличие. Аристократаческие салоны служили приютом учености и
роскоши, таланта и пошлости, блестящей холодной светскости и христианского
человеколюбия... Все это непостижимым образом сплеталось и ютилось под сенью
кодекса самой распущенной нравственности. Новых ощущений, интересных забав —
вот все, чего жаждали французские аристократы того времени; на этой арене
пустоты и тщеславия появляется новый философ, отмеченный уважением самых ученых
и знаменитых парижан (с д'Аламбером и Гельвецием Юм еще до приезда во Францию
вел деятельную переписку); в Европу уже успела проникнуть молва о новизне и
смелости его воззрений; английские пиетисты аттестовали его как
распространителя вредных атеистических учений — всего этого было больше чем
довольно для возбуждения энтузиазма той нации, которая, по меткому выражению
Юма, «вследствие постоянно живущего в ней мятежного духа все доводит до
крайности в ту или другую сторону».
Шотландскому
философу пришлось на собственной особе испытать эту способность французов
увлекаться до крайности. Появление его в Париже ознаменовалось целым рядом
самых неожиданных оваций. Литераторы, аристократы, придворные, наконец, сам
дофин (сын Людовика XV) соперничали друг перед другом в чествовании
чужестранца-философа. Самые знатные дамы наперерыв приглашали Юма на свои
приемы и торжествовали, если им удавалось показаться публично в сопровождении
новой знаменитости. Один из очевидцев этих триумфов Юма, лорд Чарлемонт,
рассказывает, что «зачастую в ложе Оперы широкое незначительное лицо толстяка
Дэвида выставлялось между двумя прелестными женскими личиками». Но напрасны
были все ухаживания и заискивания парижан и парижанок: Юму, с его холодным
темпераментом и никогда не оставлявшей его рассудительностью, ничто не могло
вскружить голову. В письмах на родину он отзывается о первом времени своего
пребывания в Париже следующим образом: «В продолжение двух дней, проведенных в
Фонтенбло, я вытерпел столько лести, сколько вряд ли выпадало на чью-либо долю
за такой промежуток времени... Я питаюсь теперь только амброзией, упиваюсь
только нектаром, вдыхаю в себя только фимиам и попираю ногами только цветы...
Роскошь и развлечения, окружающие меня, доставляют мне больше неприятностей,
чем удовольствия».
Как
и следовало ожидать, однако, триумфам Юма скоро настал конец; приезжий успел
потерять интерес новизны, его оставили в покое, и тут, собственно говоря,
наступил для него тот период интересных знакомств и дружеских сношений с людьми
действительно замечательными, который доставил Юму такое полное удовлетворение
и даже внушил ему желание сделать Францию своим вторым отечеством. Как нарочно,
случилось так, что, и живя в Париже, Юм имел полное основание негодовать на
неблагодарность и несправедливость к нему английского правительства. Дело в
том, что место секретаря посольства, на которое пригласили Юма, в сущности не
было вакантным: официально оно числилось за мистером Борнби, человеком очень
неспособным и ленивым, который, оставаясь в Лондоне, даром получал значительное
жалованье (12 тысяч рублей в год), между тем как Юм в Париже исполнял все обязанности
секретаря посольства. Единственно, что удалось Гертфорду выхлопотать для Юма
как вознаграждение, это временную пенсию по 2000 руб. в год и обещание
предоставить ему место секретаря, как только оно освободится. Но так как с этим
назначением очень медлили, то Юм не раз выражал негодование и сожаление по
поводу своих обманутых надежд. Гилберту Эллиоту он писал об этом следующее: «Я
привык получать от моей родины только оскорбления и неприятности, но если это
будет так продолжаться, то ingrata patria ne ossa quidem habebis (неблагодарное
отечество, ты даже и костей моих иметь не будешь)».
Вообще
за время своего пребывания в Париже Юм высказывал такое предпочтение французов
своим соотечественникам и так резко нападал на англичан за их варварское
отношение к литературе и за холодный темперамент, что иногда вызывал отпор в
своих старых друзьях на родине. Так, Эллиот писал ему: «Любите французов,
сколько хотите, но прежде всего продолжайте быть англичанином». Совет этот Юм
не оставил без возражений: «Можете ли вы серьезно говорить таким образом? Разве
я или вы англичане? Я — космополит, но если бы мне пришлось избирать себе
отечество, я остановился бы на той стране, в которой живу теперь». Несколько
лет спустя Юм изменил свое мнение о Париже, находя жизнь в нем чересчур
тревожной и неподходящей для пожилого человека, так что шотландский философ без
сожаления променял впоследствии блестящий парижский свет на скромный кружок
своих эдинбургских друзей; но антипатия, вернее, какая-то ненависть к
англичанам, и в особенности к жителям Лондона, осталась в нем на всю жизнь.
Трудно даже объяснить это чувство; отчасти оно могло быть вызвано обидой,
затаенной, но не забытой самолюбивым автором после плохого приема его
сочинений; но несомненно, что значительная доля горечи в данном случае должна
быть отнесена к провинциализму Юма, к тому, что он и воспитывался, и жил в
условиях простых, свободных от тех приличий и стеснений, которыми так изобилует
кодекс лондонской светскости. Вот почему он всегда неловко чувствовал себя среди
жителей английской столицы и почему, наоборот, ему пришлись по душе свобода и
непринужденность в обращении парижан.
В
1765 году Юм был наконец утвержден секретарем посольства и вслед за тем заменял
даже посланника, так как лорд Гертфорд получил другое назначение и уехал в
Англию. Искренне полюбив своего секретаря и оценив его способности, бывший
посланник выхлопотал ему место очень выгодное и очень спокойное; но, к чести
своей, Юм наотрез отказался от принятия подобной синекуры, «отзывающейся
жадностью и хищничеством». Пробыв в Париже до начала 1766 года, Юм уехал на
родину, которую уже не покидал до самой смерти.
Нельзя
обойти молчанием эпизод, относящийся к описываемому нами времени в жизни Юма, —
именно его знакомство с Жан Жаком Руссо. Еще в 1761 году лорд Маршалл,
встретившись с Руссо в Невшателе, посоветовал ему переменить место его изгнания
на Англию и просил Юма принять участие в бедном эмигранте. Госпожа Буффле со
своей стороны писала Юму о Руссо как о человеке замечательном. Следуя этим
просьбам, равно как и побуждению собственного доброго сердца, Юм написал Руссо,
радушно приглашая его в свое отечество и предлагая ему приют у себя. Но переезд
Руссо в Англию совершился лишь через несколько лет. В 1766 году Юм познакомился
с Руссо во Франции и, уезжая оттуда по окончании своей службы в посольстве,
увез с собой французского философа. Первое время Юм был совсем очарован своим
новым другом и сравнивал его с Сократом, находя при этом, что Руссо еще более
гениален, чем древний греческий философ. В феврале 1766 года Юм писал своему
брату: «Руссо самый скромный, кроткий, благовоспитанный, великодушный и
сердечный человек, какого я когда-либо встречал в моей жизни». Далее он
характеризовал Руссо как самого замечательного человека в мире и прибавлял, что
«очень любит его». Но скоро Юм понял, с кем имеет дело. При несомненной
талантливости Руссо далеко не был ни скромным, ни благовоспитанным, ни
великодушным человеком. Странным образом в нем сочетались оригинальность ума и
вспышки настоящего безумия, блестящие способности и мелочное тщеславие, тонкая
проницательность и напыщенная высокомерность взглядов. Все это далеко не
соответствовало идеальному представлению о нем Юма.
По
приезде в Англию Юм принялся хлопотать об устройстве приюта для своего нового
друга и наконец нашел ему убежище в одном из городов Дербишира. Недолго,
однако, довольствовался Руссо предоставленными ему удобствами и покоем. В
сущности, он искал в Англии не мирного уединения, а славы, торжественного
приема, возможности стать героем дня. Убедившись, наконец, что все это тщетные,
неосуществимые надежды, Руссо со всей запальчивостью раздражительного человека
напал на Юма, этого виновника его неудачного переселения в Англию. Руссо
обвинял Юма и во враждебном к нему отношении, и даже в заговоре с другими
лицами, будто бы составленном с целью разорения беззащитного эмигранта. Юм с
удивительным терпением переносил все эти выходки тщеславного француза, считая
его скорее ненормальным, чем негодным человеком. Позднее Руссо делал попытку
слабого оправдания, но какую? — вместо раскаяния в своем поведении, он объяснял
его влиянием туманного климата Англии. Так печально окончилась дружба этих двух
мыслителей, бывших слишком различными и по темпераменту, и по убеждениям, чтобы
рано или поздно между ними не произошло столкновения и даже полного разрыва. Но
нельзя не признать, что лучшая роль в этой грустной истории выпала на долю
добродушного, рассудительного, честного и уступчивого в своих симпатиях
шотландца, а худшая — на долю тщеславного, раздражительного и взбалмошного
француза.
По
возвращении Юма из Франции его ожидало новое приглашение на видный
административный пост в Лондоне: философу было предложено место помощника
государственного секретаря Шотландии. Около двух лет прослужил Юм в этой новой
должности, с которой были соединены не особенно обременительные обязанности;
вот что писал он об этих занятиях: «Мой образ жизни очень однообразен, но вовсе
не неприятен. От десяти до трех часов я бываю в секретариате; в это время
получаются депеши, сообщающие мне все тайны не только нашего королевства, но и
Европы, Азии, Африки и Америки. Спешных дел у меня почти не бывает, и я всегда
имею достаточно свободного времени для того, чтобы взяться за книгу, написать
письмо или поболтать с навестившим меня другом; наконец, начиная с обеда и до
самой ночи, я полный хозяин своего времени. Если вы прибавите к этому, что
лицо, с которым мне приходится главным образом, если не исключительно, иметь
дело, — человек самый рассудительный, какого только можно себе представить, то
вы поймете, конечно, что у меня нет повода жаловаться. Тем не менее я не буду
жалеть, когда эта служба придет к концу, потому что мое высшее счастье, мое
полное удовлетворение состоит в том, чтобы читать, гулять, мечтать, думать».
Служба
Юма скоро пришла к концу, и в 1769 году мы видим его снова в Эдинбурге,
счастливого своим возвращением на родину и намеревающегося провести остаток
жизни в спокойном и приятном довольстве, пользуясь всеми благами, которые могло
ему доставить значительное состояние (10 000 рублей годового дохода),
приобретенное им к этому времени. Поселившись в Эдинбурге и окончательно решив
дожить здесь до самой смерти, Юм занялся постройкой для себя дома по своему
вкусу. Здание это было воздвигнуто в едва застраивающейся части города и
пришлось как раз в начале новой улицы; одна остроумная эдинбургская барышня
начертала на доме Юма слова: «улица Св. Давида», таким образом была окрещена
эта до тех пор безымянная улица. Говорят, что когда служанка Юма жаловалась
своему господину на эту проделку ветреной мисс, то философ ответил: «Не беда,
моя милая, в прежнее время многих хороших людей делали святыми». В продолжение
следующих шести лет дом на улице Св. Давида служил центром единения самого
изысканного и блестящего эдинбургского общества. Если мы вспомним, что членами
этого кружка были, между прочим, Адам Смит, Гилберт Эллиот, Маккензи, Генри Гом
и другие истинные и просвещенные друзья знаменитого шотландского философа, то
нам станет понятным, почему он без сожаления вспоминал о более блестящих, но менее
тесных и дружных кружках Лондона и Парижа.
Тихо,
но в то же время радостно протекали последние годы жизни Юма, и незаметно
подкралась к нему смертельная болезнь. В 1775 году философ почувствовал, что
его здоровье сильно пошатнулось и что от овладевшего им недуга ему уже не
избавиться. С полным самообладанием принялся он за те дела, которыми должен был
закончить свои земные расчеты. Прежде всего Юм написал духовное завещание,
которым главную часть своего состояния (60 000 рублей) отказывал брату, сестре и
племянникам; кроме того, он оставил значительные суммы своим друзьям: Адаму
Смиту, Фергюсону и д'Аламберу; Адама Смита он назначил своим литературным
душеприказчиком, поручив ему издать «Диалоги о естественной религии». Покончив
с завещанием, Юм принялся за осуществление своего давнишнего намерения — за
автобиографию. Любопытный документ вышел на этот раз из-под пера философа: это
произведение носит на себе печать такой объективности, какую вряд ли можно
встретить в сообщении автора о самом себе. Юм все время ограничивается строгой
и очень сжатой передачей фактов, изредка лаконически объясняя их смысл; но о
чувствах, о лирических отступлениях, словом, о чем-либо исключительно
субъективном, нет и помина во всем этом произведении. Юму кажется даже непростительной
претензией и тщеславием самое желание писать свою автобиографию, и он в самом
же начале ее объясняет читателям причины, вызвавшие ее появление на свет.
«Трудно говорить о себе долгое время без хвастовства, поэтому я описываю свою
жизнь только вкратце. Правда, можно принять за известного рода тщеславие самое
намерение писать свою автобиографию, но эта повесть будет содержать в себе не
что иное, как историю моих писаний. В самом деле, почти вся жизнь моя прошла в
научных трудах и занятиях». Как сказался в этом Юм, ставивший высшим интересом
и главной целью своей жизни именно служение науке. Только потому и отваживается
он рассказывать вкратце о себе, что все его силы, вся жизнь были посвящены
обществу, составляют его собственность, и потому «история писаний» Юма, по
мнению самого автора, имеет интерес и для современников, и для потомства. Есть
что-то трогательное и величественное в этом рассуждении замечательного
-мыслителя, который сознательно затеняет личное я, выставляя на вид свой
крупный вклад в науку, да и это делает лишь потому, что ясно понимает всю
пользу, какую принесет обществу напоминание о замечательных философских и
литературных трудах умирающего писателя.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|